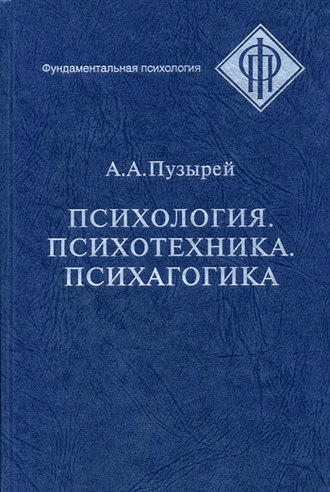
А. А. Пузырей
Психология. Психотехника. Психагогика
Психология личности и психотерапевтическая практика[6]
Представления о личности, складывающиеся в рамках различных психотерапевтических практик, по своему статусу существенно отличаются от положений собственно научной – экспериментальной – психологии. Многие из этих представлений не допускают прямой объектной интерпретации: зачастую нет и не может быть в действительности такого объекта, который можно было бы поставить в непосредственное соответствие этим представлениям. Внутренняя объектная рефлексия самой психотерапевтической практики – с точки зрения стандартов верификации научного знания – оказывается несостоятельной. Существенно, однако, что рефлексия эта не может быть просто отброшена (как никуда не годная) с сохранением самого опыта работы с личностью (как самого по себе ценного и лишь неверно осмысленного). Рефлексия эта является, как правило, не просто внешним отражением процессов и отношений внутри психотерапевтической практики, но представляет собой органическую часть и необходимый момент самой этой практики. Итак: опыт работы с личностью, получаемый внутри психотерапевтических практик, чрезвычайно значим для психологии личности, в силу чего встает задача его ассимиляции. Формы его теоретического осознания внутри самих практик, однако, неудовлетворительны, так что соответствующие представления о личности не могут быть непосредственно заимствованы научной психологией личности. Наконец: сам терапевтический опыт существенным образом опирается на эти представления и ими определяется, в силу чего представления эти не могут быть отделены от самого терапевтического опыта. Можно ли в таком случае найти некую «абсолютную» систему отсчета, в рамках которой представления о личности практической психологии были бы психологически реальными и осмысленными вне зависимости от того, возможна или нет их прямая объектная интерпретация? Иначе говоря, встает вопрос о единице и методе их анализа. В качестве ближайшей такой единицы выступает психотехническое действие, благодаря которому достигается тот или иной психотерапевтический эффект и, далее – та или иная система психотерапевтической практики в целом. Рассмотреть какое-либо представление по отношению к определяемой таким образом единице анализа – значит взять его в тех основных его функциях, которые оно реально выполняет в соответствующей системе психотерапии.
Материалом анализа при этом должны стать не только те «факты», с которыми имеет дело психотерапевт, и даже не они сами по себе, но некоторая более широкая система, включающая также и план представлений о личности и о технике работы с ней, представлений, в форме которых эти факты осмысляются терапевтом, и, что еще более важно, – план «употреблений» этих представлений, их функционирования в системе психотерапевтической практики. Естественно, что характер и число таких функций будут различны для разных видов психотерапии. Так, в случае классического психоанализа выделяются прежде всего две функции основных психоаналитических конструктов – соответственно основной диадной структуре ситуации психоаналитической терапии, двум основным полюсам в ней – пациента и терапевта. В отнесении к позиции пациента любая из психоаналитических конструкций (типа представлений об инстанциях личности, психологических комплексах, символике сновидений и т. п.) выступает – в ее «психотехнической» функции – как особого рода средство «организации нового опыта сознания» и через это – достижения основного психотерапевтического эффекта. По отношению же к позиции терапевта функция психоаналитических конструкций состоит в том, чтобы обеспечить определенное – действенное и ситуативное – понимание, на основе которого терапевт мог бы управлять ходом психоанализа и наиболее эффективно достигать психотерапевтических результатов. Наконец, важна и транслятивная функция теоретических построений психоанализа – их работа в качестве средств передачи опыта терапии и ее воспроизводства как особого рода деятельности.
В сообщении будет представлена попытка выделить некую универсалию основной структуры психотерапевтической практики, универсалию, которая могла бы выступить в качестве своеобразного «модуля» при сопоставительном анализе различных терапевтических практик, и, на основе этого, высказанные положения будут продемонстрированы на разборе некоторых психоаналитических представлений, равно как и представлений о личности, сложившихся в индирективной психотерапии К. Роджерса и транзактном анализе Э. Берна.
«Герника» Пикассо: опыт психологического анализа[7]
Каким образом психолог может иметь дело с реальными вещами искусства, с творчеством реальных художников? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы ограничимся в данной работе демонстрацией принципиальной идеи, или принципиального подхода к анализу художественного творчества, – подхода, который, вслед за Выготским, можно было бы назвать «объективно-аналитическим» или культурно-историческим. Вместе с тем, это будет реализацией того особого типа исследования, который в психологии называют иногда «анализом одного случая», то есть мы возьмем для анализа всего только одну вещь искусства – «Гернику» Пикассо – и попытаемся провести этот анализ во всей конкретности и уникальности «данного случая».
Конечно же, выбор и художника, и картины неслучаен. Что касается фигуры Пикассо, то ее выбор будет неоднократно мотивироваться в ходе самого исследования. По поводу же выбора именно «Герники» из всего огромного наследия Пикассо необходимо высказать несколько предварительных соображений. Эта работа взята нами не потому, что является одной из самых известных и значительных работ художника (а возможно – и одной из самых знаменитых работ в истории искусства двадцатого века или даже, как многие считают, во всей истории европейского искусства в целом), но потому, что в самом творчестве Пикассо она занимает особое место.
«Герника» написана в 1937 году. Это действительно одна из центральных работ в творчестве художника – не только по ее значению, но еще и потому, что у самого Пикассо она собирает множество разных линий – как из прошлого, так и, в каком-то смысле, даже из будущего, то есть является узлом, на котором стягиваются многие сквозные для творчества Пикассо темы и проблемы.
Но для исследователя – особенно для того, который пытается подойти к анализу художественного творчества со стороны психологии, – эта работа является особой и еще в одном отношении. Она уникальна тем, что в этом случае сохранились почти все предварительные материалы. Для творчества Пикассо это совершенно исключительный случай, поскольку, как правило, ничего из черновой работы не сохранялось. Тут же сохранилось не только большое число предварительных набросков, своего рода «графических записей» мыслей, иногда отдельных даже мыслей, – в фотографиях сохранилась также и последовательность работы над окончательным вариантом этой картины, и можно проследить, как Пикассо пришел к нему. В случае этой работы Пикассо, как и для всего его творчества (а возможно – и вообще для анализа любого сложного и серьезного произведения искусства), это обстоятельство представляется решающим. Оно позволяет попытаться «изнутри» выполнить реконструкцию логики работы, ее содержания, не всегда прямо записанного в ней, – того ее смысла, ради которого она, в конце концов, была создана.
Два слова об истории создания этой работы. «Внешним» поводом для ее создания послужило действительно трагическое, страшное событие, которое произошло в самом конце 36-го года, – бомбежка одним из нацистских штурмовых отрядов небольшого баскского городка в Испании (скорее даже селения, чем города). За несколько часов бомбежки Герника была буквально стерта с лица земли. На следующий день все газеты мира уже писали об этом, и Пикассо, конечно, тоже узнал и был потрясен этим известием. У него как у художника сразу появилось желание как-то откликнуться на это.
Но какое-то время он не мог даже подступиться к этой теме. Быть может, потому, что он был так сильно захвачен аффектом, связанным с этим сообщением, – а может быть, потому, что протекал какой-то скрытый «инкубационный период», в ходе которого произошла стяжка, стыковка двух линий его творчества.
Первая линия – это та, которую можно было бы связать непосредственно с данным событием и, соответственно, с внешним – социальным, гражданским и, возможно, политическим – содержанием этой работы. В основном именно благодаря этой стороне «Герника» и получила свою известность, свое особое звучание и стала одной из самых знаменитых работ не только двадцатого столетия, но и вообще в истории живописи. Во всяком случае, она стала своеобразным символом искусства двадцатого века. Эта линия связывает работу Пикассо с событием истории: прежде всего, истории Испании (родины Пикассо), но также и истории Европы – предвоенной Европы и Европы времен гражданской войны в Испании, когда уже надвигалась и разрасталась нацистская чума, – и истории двадцатого века в целом.
Я пытаюсь показать, однако, – и в этом состоит пафос моей сегодняшней беседы, – что хотя, конечно, эта первая линия и важна, но мы не поймем чего-то очень важного и, может быть, даже главного в этой работе, если ограничим ее содержание только внешними драматическими обстоятельствами. В не меньшей мере эта работа является своего рода исповедью и отчаянной попыткой некоего духовного очищения и спасения, прежде всего – для самого Пикассо, а через это и тем самым – тем, что открывает такую возможность и для каждого человека. Эта работа является предельно личностной вещью. Личностной – не только для самого Пикассо, но и для каждого человека, который чувствует ответственность перед собой и перед другими людьми за то, что происходит в мире. Достаточно посмотреть на «Гернику», чтобы выйти на эту линию обсуждения.
Первое, что удивляет после знакомства с внешними обстоятельствами ее создания, – это то, что отклик на вполне реальное гражданское событие получился у Пикассо в какой-то странной, мифологической форме.
Мы видим, что действующими лицами – главными действующими лицами – являются здесь даже не люди, хотя и они тут есть (и это люди, которые, понятное дело, пребывают в состоянии агонии и отчаяния), – но главными фигурами в этой работе являются все же две нечеловеческие фигуры: это лошадь в центре картины, которая тоже агонизирует – она смертельно ранена, видно несколько огромных, зияющих ран, – и это бык, который находится в углу картины. Фигура быка только наполовину реальна, а наполовину она – мифологическая. Если обратить внимание на эти фигуры, то можно уже понять, что в эту работу Пикассо вошло не только само событие, но и его прошлое.
Из творческой биографии Пикассо известно, что в годы, непосредственно предшествовавшие созданию «Герники», то есть в 20-е и 30-е годы, им была создана уникальная и весьма разработанная система своей собственной мифологии.
Отчасти она перекликалась с рядом мотивов и фигур средиземноморской мифологии, античной мифологии и мифологии Ближнего Востока. Но и эти мифологии были переработаны в очень индивидуальном ключе, и этот процесс переработки отражен у Пикассо не только в его станковых работах, но прежде всего в больших графических сериях. Широко известна так называемая волларовская серия. Почти на каждом из листов этой серии встречается фигура быка, а точнее – минотавра. Причем если просмотреть эту серию целиком, выстроив ее в ряд, то – как и в случае серии подготовительных этюдов и эскизов к «Гернике» – можно увидеть определенный процесс развития. Это не только внешнее, сюжетное развитие, но также и развитие смысловое – развитие тех смыслов, которые придавались основным действующим фигурам, ситуациям и сюжетам. Положим, фигура быка в волларовской серии весьма противоречива. И эта противоречивость должна быть непременно учтена при анализе быка «Герники». Противоречивость эта состоит в том, что, с одной стороны, здесь (как и на многих других работах Пикассо) мы видим быка как некоторое предельное воплощение грубого, брутального, агрессивного, не подвластного контролю начала – начала, которое, как правило, связано также и с насилием, часто в эротическом смысле этого слова. Мы снова и снова встречаемся с этим. Пикассо и сам неоднократно говорил, что фигура минотавра является для него не столько очеловеченным животным, как это было для античных греков, сколько, наоборот, брутальным, темным началом в самом человеке. На многих работах мы видим вакханалии, где минотавр является одним из действующих лиц. Но, вместе с тем, на других работах этой серии можно видеть, как у Пикассо происходит то «слипание», то «разъединение» фигуры минотавра и его собственной фигуры, которая появляется уже в человеческом виде. На этих работах мы имеем прямые свидетельства того, что фигура минотавра появляется у Пикассо не просто в связи с античными сюжетами, но является неким сквозным олицетворением самого художника, чего-то важного в нем самом. Важное замечание, которым мы еще воспользуемся, когда снова вернемся к анализу «Герники». Нас не должно смущать то обстоятельство, что на некоторых листах, кроме минотавра, присутствует еще и что-то вроде автопортретов – странных автопортретов – самого художника. Психолог этому не должен удивляться: он понимает, что, опускаясь в «глубины бессознательного», мы снова и снова встречаемся с такого рода «множественным» представлением души человека: она как бы «раскладывается» на несколько различных «фигур», которые в своем взаимодействии и разыгрывают драму, которую можно назвать «внутренним планом» душевной жизни человека и его развития.
Существуют, однако, и совершенно иные листы волларовской серии, где минотавр совсем не так агрессивен, совсем не так жесток, иногда он даже трогателен, он оказывается фигурой беззащитной или даже как будто бы жертвой – как, например, на листе, где ослепленный минотавр беспомощно, продвигаясь ощупью, идет вперед. Здесь встречается и другой – важный для Пикассо этого периода – символ: фигура маленькой девочки. На одном из листов она с букетиком цветов, на других работах на месте цветов мы находим огонь или свечу, что, опять же, указывает на некое символическое значение этой детали, как бы переходящее от одной вещи к другой. Эту гравюру с ослепленным минотавром и девочкой интересно сравнить с другой, очень известной гравюрой, примыкающей к этой серии, которая называется «Минотавромахия». В «Минотавромахии» мы видим минотавра по-прежнему агрессивным, страшным, жестоким. И опять перед ним лошадь, которая и тут появляется со вспоротым животом, откуда вываливаются ее внутренности. На спине этой лошади (важная деталь) – матадор, и это – женщина: прекрасная женщина, которая находится в каком-то странном состоянии – то ли обморока, то ли она уже мертва. Здесь мы видим, что крайняя слева от зрителя фигура – фигура, бесспорно олицетворяющая самого художника, – изображает бегство, пассивное бегство. Изображенный на гравюре мужчина пытается спастись бегством. Это взрослый, сильный мужчина, и он пытается бежать по лестнице – «лестница» тут, конечно, тоже не случайна – как не случайно мы видим «подъем вверх». Здесь присутствуют и эротические смысловые обертона, но главное – это то, что лестница тут символизирует подъем вверх: можно было бы сказать – из неких темных глубин души к чему-то, что лежит вверху, к чему-то более светлому, скажем – к сознанию. Это обстоятельство намекает нам на то, что фигура художника здесь символизирует прежде всего сознательную часть его личности. Он пытается бежать. А при этом – совершенно бесстрашно, с каким-то внутренним спокойствием и с какой-то даже почти участливой нежностью встречает этого разъяренного быка маленькая девочка. В одной руке у нее опять маленький букетик цветов – что всегда знаменует, как мы знаем, чистоту и невинность, но также и открытость и трогательную беззащитность. А в другой руке – свеча. Свеча – это символ огня, света, который, правда, загорается тут «среди бела дня», что, опять же, указывает на его непрямое, символическое значение – света внутреннего (который, кстати, как мы знаем по мотиву «ослепления», хотя бы в случае того же Эдипа, становится видимым, открывается или даже загорается только для того, для кого гаснет внешний, дневной свет). Хотя общая атмосфера сцены – мрачная, но все-таки действие происходит в экстерьере, и видно, что еще совсем не темно: вдали виден некий морской пейзаж, и он хорошо просматривается. Свеча, светильник имеет здесь второе, символическое значение – это не просто прибор, чтобы светить во тьме в буквальном смысле слова. Это – светильник в том же значении, в котором он встречается потом и в «Гернике» – там тоже, помимо основного, есть некий второй, загадочный источник света. Там есть, во-первых, лампа, и она, казалось бы, достаточна для того, чтобы осветить – в физическом смысле – все, что происходит. Но есть и второй свет. Второй свет, который врывается в это подземелье. Его держит протянутая – опять же, женская – рука, рука некой непонятной женской фигуры. Мы можем вспомнить тут и еще одну странную фигуру – фигуру древнегреческого философа Диогена, который, по преданию, ходил с фонарем среди бела дня по главной городской площади, а когда его изумленные сограждане вопрошали, зачем это он зря жжет масло днем, когда и так все прекрасно видно? – он, как мы помним, отвечал этим неразумным людям, что ищет-то он человека – человека среди людей, – или, что то же: человеческое в человеке. А это, как оказывается, и днем с огнем не найти. Вот такого рода ассоциации можно связать с этим странным светом – светом, который врывается в темное пространство, заполненное агрессией, жестокостью и страхом, откуда-то как будто бы из другого мира, и он призван высветить здесь что-то взглядом из этого другого мира. И свет этот, как мы снова и снова видим у Пикассо, оказывается связан с фигурой ребенка, маленькой девочки, знаменующей чистоту и невинность. Вспомним фильмы Феллини – «Джульетту и духи» или «Сладкую жизнь»: они сделаны с такой же установкой, о какой мы говорим сейчас применительно к «Гернике», – с установкой на то, чтобы попытаться всех персонажей представить сразу в двух измерениях: в реальном, и даже подчеркнуто сниженно обыденном – и одновременно в неком другом, «ортогональном» измерении. Так, в «Джульетте и духах»: с одной стороны – вполне реальные и обыденные события, происходящие в одной обычной семье, семье героини – Джульетты. В этом внешнем, «реальном» плане героиня оказывается в некой критической точке своей жизни, она должна принять важное решение: расстаться с мужем или нет? Это женщина уже достаточно зрелого возраста, ей где-то за 40. Но вместе с этой реальной линией все время присутствует, проводится и какая-то вторая линия: каждая ситуация, каждый образ, каждый шаг этой героини, каждое действие окружающих ее людей имеют еще и какой-то второй смысл – значение, соотнесенное не с планом внешних событий, внешнего решения, которое должна принять героиня, но с планом ее внутренней – душевной и духовной – жизни, во многом непонятной и загадочной для нее самой, для окружающих и для зрителей. Только потом, когда мы выходим из зрительного зала и начинаем снова и снова мысленно возвращаться к этому фильму, думать над отдельными его эпизодами и образами, – только тогда мы начинаем вдруг что-то понимать, у нас начинает что-то связываться, начинает «говорить» именно в этом – втором – плане. «Сладкую жизнь» можно вспомнить в связи с заключительным эпизодом фильма. Этот фильм тоже есть попытка особого рода аналитического исследования внутренней биографии современного человека – современного художника (по фильму – журналиста), который тоже оказывается в некой критической жизненной ситуации, когда решается вопрос, быть или не быть ему как человеку, как личности, как художнику. У этого фильма, как мы помним, довольно-таки безысходный финал. На протяжении всего фильма его герои «играют» в жизни, они в каких-то масках, непроницаемы друг для друга, и нет места для подлинной встречи и контакта между ними. И вот – в конце фильма как будто бы происходит некий прорыв. Но он возможен только на какое-то короткое время, и уже минутой позже мы понимаем, что все будет как было, по-старому. Всю ночь гулявшая – и здорово погулявшая – компания ранним утром готова разъехаться. Поначалу, казалось бы, продолжают происходить еще какие-то события в духе прежнего, хотя уже и идущего к концу «веселья», которое всю ночь продолжалось в каком-то фамильном замке одного из участников этой компании. Все происходит вблизи берега моря, и вот кто-то вдруг замечает что-то необычное на берегу. Все нетвердой походкой направляются туда и видят, как на их глазах рыбаки вытягивают сети с каким-то огромным странным чудовищем. Кто с любопытством, кто с ужасом разглядывает его, отпуская скабрезные шуточки. Но героя даже вид этого чудовища уже не способен развлечь: «как можно смотреть на это?!» – восклицает он и отходит в сторону. И вдруг – какая-то остановка: что-то перпендикулярное всему этому ходу событий начинает происходить с героем. Он вдруг слышит обращенные к нему крики, поднимает голову и видит вдалеке, по ту сторону какого-то небольшого залива, девочку, что-то кричащую ему. Маленькую девочку, с которой незадолго до того случайно познакомился. Она почему-то тоже оказывается в этот час на пляже. Раннее утро. Девочка что-то кричит, пытается жестами что-то сказать герою, но рокот волн заглушает ее крики. «Я ничего не слышу, не понимаю!» – снова и снова кричит он ей в ответ, стоя на коленях у кромки разделяющей их воды. Все происходит как-то очень чисто, светло и трогательно. Герой сокрушенно разводит руками и позволяет увлечь себя вослед всей уже насытившейся зрелищем рыбы и удаляющейся вдоль берега компании. Девочка улыбаясь смотрит ему вслед и потом поворачивает голову и оказывается глядящей глаза в глаза зрителю. И это последние кадры фильма. Весь этот эпизод вполне мог бы быть эпизодом сна. Да он и должен так восприниматься. Сна, толкование которого излишне.
Важно, что основные фигуры, с которыми мы встречаемся в «Гернике», не были специально изобретены или выдуманы Пикассо для этой работы, – это фигуры, сквозные для всего творчества Пикассо предыдущих лет. И каждая из них тянет за собой определенные ассоциации. Так, минотавр – через какие-то детали ряда более ранних работ Пикассо – неожиданно связывается с одним из сквозных образов его «розового» периода, а именно с фигурой Арлекина. На одной из работ этого периода можно видеть минотавра в костюме Арлекина, причем и здесь мы улавливаем особое символическое содержание. Мы видим фигуру поверженного чудовища – минотавра, на которого надет пестрый костюм, похожий на костюм Арлекина, и вместе с тем в этой фигуре явно просматривается идентификация с самим художником. В случае другой из этих ранних работ, где фигуре Арлекина придано прямо-таки портретное сходство с самим художником, в этом можно непосредственно убедиться. Выстраивается цепочка, которая позволяет предположить, что фигура минотавра обозначает не какое-то – безличное и внешнее по отношению к самому художнику – агрессивное и брутальное начало, но является фигурой, знаменующей что-то в душе самого Пикассо.
Не менее важны для понимания «Герники» и графические листы из серии «Мечты и жизнь Франко». Эта работа была начата еще до «Герники» – что важно, поскольку здесь обнаруживаются бесспорные параллели с «Герникой», например, фигура кричащей женщины с ребенком на руках и другие фигуры и мотивы. Естественно возникает вопрос: что же было раньше и что откуда перешло? По-видимому, последние листы этой серии были сделаны уже после «Герники», и мы видим, скорее, следы «Герники» на некоторых листах этой серии, а не наоборот, хотя начата эта серия была еще до «Герники».
Обратимся теперь непосредственно к материалам, которые связаны с зарождением замысла «Герники».
Первые листы, прямо относящиеся к «Гернике», датированы 1 мая 1937 года, то есть они созданы всего несколько дней спустя после гибели Герники. Поначалу замысел работы еще очень невнятен – трудно даже понять, что за фигуры на этих листах. Это какая-то прямо-таки «пиктографическая» запись для себя, своеобразная скоропись без всякой еще попытки как-то графически воплотить замысел, реализовать его. Вскоре, однако, – уже на первых набросках – появляются некоторые мотивы, которые войдут затем в окончательный вариант «Герники». Что интересно – на разных набросках разные мотивы появляются первоначально порознь, и только потом они вступают в какие-то взаимодействия между собой, начинают складываться в какие-то фрагменты будущей композиции, причем характер отношений между этими разными мотивами от листа к листу неоднократно меняется.
На первых листах эти отдельные мотивы – как раз потому, что они выступают еще в изолированном виде, – легко читаемы. Следует заметить, что у Пикассо ничто не случайно, все важно, все имеет значение, начиная с формата листа или, точнее говоря, композиции. Формат первых вариантов наброска целостной композиции разный: начиная с какого-то листа мы видим близкий к окончательному вытянутый по горизонтали прямоугольник, тогда как первоначальный формат листа близок к квадрату. И это – не случайно.
Уже на первых набросках мы видим главные фигуры последующей композиции: быка, лошадь, руку со светильником. Причем как раз первые листы с очевидностью указывают на несводимость значения этого образа к прямому, буквальному, которым, казалось бы, можно было бы ограничиться, исходя из окончательного варианта «Герники».
В этом окончательном варианте события происходят в каком-то странном подземелье. Мы видим детали интерьера: намечены углы комнаты, потолок, пол и т. д. Однако вскоре мы понимаем, что интерьер этот – одновременно и экстерьер. Подобное можно встретить на наших древних иконах: показано какое-то действие в храме, а вместе с тем – и внешний вид храма: крыша, купола, колокола, птички какие-то и т. д. В случае «Герники» мы тоже видим некоторые детали экстерьера – например кусок черепичной крыши, – и он, на первый взгляд, совершенно не вяжется с остальным построением картины. И мы можем недоумевать по поводу того, что здесь нарисовано, что это может значить, если воспринимать эти детали как принадлежащие к интерьеру комнаты. И как раз первые листы подготовительных набросков позволяют понять, что же тут изображено на самом деле. Первые листы этих набросков – даже и те, что выполнены уже не на маленьких подготовительных листах, а на большом формате, – еще дают всю ситуацию в экстерьере, как нечто, происходящее на улице или на площади. И только в конечном варианте оказывается, что действие происходит одновременно и в каком-то подземелье. И это, опять же, не случайно, но понятно ввиду символического толкования, к которому ведет наш анализ. Так, взятый в экстерьере, по своему прямому назначению, светильник лишен смысла.
Обратим внимание еще на одну деталь, которая встречается на первых листах в хорошо различимом виде: это – какая-то загадочная фигурка маленькой крылатой лошадки, сидящей на спине минотавра. Что это: Пегас? Но на другом листе, где мы видим нечто подобное, это, скорее, что-то похожее на птицу. Что значит эта фигурка? Ответ дает еще один набросок, на котором мы видим, как эта маленькая крылатая лошадка появляется из рассеченного тела, из зияющей раны на фигуре лошади. «Пегас» сам по себе – это символ искусства вообще, и, к тому же, он всегда связывается еще с одним мотивом – с мотивом возрождения, как и жар-птица. Это устойчивый символ возрождения – творческого начала жизни и – самой жизни. Вместе с тем, коль скоро этот «Пегас» появляется здесь из смертельно раненой, умирающей лошади, он может означать и что-то вроде ее души, которая «отлетает», выходит. Этот устойчивый мифологический мотив часто появляется в фильмах. В «Зеркале» Тарковского – в эпизоде, где герой лежит в постели и непонятно, что с ним: он чуть ли не умирает, – почему-то в руке он держит птичку, мнет, мучает ее, и потом она куда-то исчезает. Тарковский – художник, который тонко чувствует символические и мифологические измерения вещи.
В окончательном варианте «Герники» эта птичка тоже присутствует, и, если не знать подготовительных стадий, она была бы совершенно непонятной – здесь она нарисована на стене и почти неразличима. Из самой картины ее значение не понятно. Но, будучи взята в контексте набросков, она получает некое символическое значение. Этот анализ похож на толкование сновидения: наброски – это что-то вроде «свободных ассоциаций», через которые можно понять смысл элементов самой картины. Интересно было бы просмотреть, как замысел Пикассо меняется от эскиза к эскизу, какие все новые и новые повороты он претерпевает, как появляются новые фигуры, в частности – фигура некоего воина, который в окончательном варианте присутствует уже в страшном, обезображенном виде. Здесь он тоже в состоянии какой-то агонии, тогда как на первых эскизах он похож, скорее, на упавшую греческую статую. И опять мы видим сочетание двух взаимоисключающих мотивов: в руке воина меч, правда, сломанный, – но вместе с тем откуда-то «прорастает» цветок.
По мере продвижения к окончательному варианту композиция становится все более и более статичной – на предварительных набросках бык проносится куда-то, что-то падает, рука вырывается откуда-то и т. д. В сравнении с этими эскизами окончательный вариант производит впечатление чего-то застывшего, однако при этом – чрезвычайно экспрессивного. Быть может, следовало бы сказать, что и здесь, как и по отношению к бессознательному, едва ли применимы обычные категории времени. Невероятно напряженная динамика, которую подчас можно обнаружить в бессознательной жизни, происходит в каком-то особом мире, где время в обычном смысле слова отсутствует, где царит вечное настоящее и происходит «вечное возвращение».
От эскиза к эскизу нарастает мрачность, темнота. В окончательном варианте она внешне мотивирована тем, что действие, вся драма разыгрывается в каком-то темном подземелье – что, конечно, символизирует некую темную сторону души, бессознательного. И здесь можно сказать, что самый окончательный формат картины не случаен. Этот формат есть только половина – нижняя половина – первоначального формата. Исследователи отмечают особую неуравновешенность композиции. Она как будто бы «закрыта» со всех сторон, кроме верхней – где, напротив, много линий, движений, которые уводят глаз вверх: воздетые вверх руки, обращенные вверх лица, головы и даже просто открытые места картины. Композиция «открыта вверх», как будто она обрезана ножницами и что-то там было еще вверху. Мы могли бы мысленно дополнить ее до некоего целого, где вместе с этим темным подземельем, своего рода эквивалентом бессознательной части души, можно бы предположить нечто, относящееся к миру сознания. Хотя сам Пикассо, скорее всего, и не отдавал себе в этом отчета, но, просматривая наброски, мы видим, как он с какой-то почти маниакальной последовательностью отсекает и «вытравливает» из этой работы все, что можно было бы связать с дневным сознанием. Все это, в конце концов, ушло из картины. Однако хотя прямо оно здесь и не представлено, но оно все-таки как-то присутствует, составляет некий неявный смысловой горизонт восприятия. Этим, быть может, и обусловлено впечатление «незавершенности» работы. Как отмечают исследователи, парадокс этой работы, ее явного содержания состоит в том, что мы не находим здесь агрессора и жертвы, победителя и побежденных, страдающих и мучителей. В конце концов, все представленные здесь фигуры разделяют судьбу жертвы. Даже бык, на котором мы не видим никаких явных, прямых следов ранений, агонии и т. д., все равно находится в каком-то невероятно напряженном, потрясенном, испуганном и потерянном состоянии. Он явно не в себе. И непонятно, не должен ли и он в конце концов разделить участь всех других фигур, которые здесь изображены. Это обстоятельство для исследователей выступает как загадка: непонятно, что же все-таки хотел сказать всем этим Пикассо.


