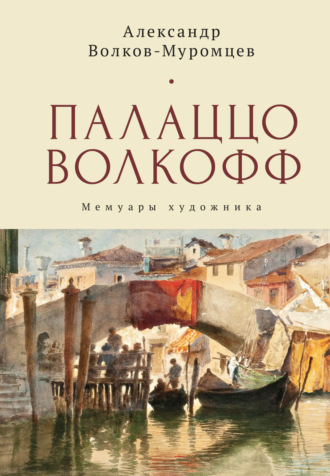
А. Н. Волков-Муромцев
Палаццо Волкофф. Мемуары художника
Купание в Гранд-канале
Мне нужно было думать об образовании моих детей, и я стал изучать разные школы в Венеции. В то время немецким и французским языками там пренебрегали, и куда могли ходить дети, не говорившие по-итальянски? Я надеялся найти что-то вроде замечательной школы во Флоренции, которую сам посещал в 1857 году и которая называлась «Школой для отцов семейств». Детей там отправляли в специальные классы, где они продолжали начатую в своей стране учебу; но ничего подобного нельзя было найти в Венеции.
Поэтому мне пришлось воспользоваться услугами г-на Бюринга, только что закончившего университет молодого немца, со шрамом на лице – результатом дуэли. Мы поселили его с детьми в мезонин дворца, и он начал давать им уроки, а сам изучать итальянский. Энергия, с которой он работал, была поразительной. Сразу же после того, как он заканчивал занятия с детьми, он доставал свои собственные книги – переводы и словарь, и занимался так усердно, что уже через год смог написать на итальянском языке первый памфлет.
Когда бывало жарко, он рано утром выпрыгивал из окна в Канал и снова заходил в дом в своем купальном костюме через большую входную дверь. Однажды он поднялся на второй этаж и спрыгнул оттуда с балкона в воду, – я попросил его больше не делать этого из-за остатков причальных свай (pali), которые могли находиться под водой.
Это венецианское развлечение полностью исчезло с момента появления пароходов. В прежние времена каждый мог купаться перед своим собственным домом, и старая графиня Тан, владелица небольшого дворца на Канале, установила палатку между четырьмя сваями перед своим домом, чтобы иметь возможность наслаждаться уединением. Именно у входа в наш дворец, смотрящий на Канал, я дал двум своим сыновьям первые уроки плавания, и они усвоили их так быстро, что после двухнедельного обучения смогли плавать до железнодорожной станции, на расстояние около двух километров (в сопровождении моей жены, плывшей вслед на своей гондоле). Понятно, что всё, что связано с гондолами, гондольерами и лодками, представляло огромный интерес для детей, и они не чувствовали себя достаточно счастливыми до тех пор, пока им не подарили маленькую лодку-сандоло, в которой они могли грести венецианским способом, стоя. Вскоре оба мальчика и их сестричка уже могли грести вполне хорошо. Их сандоло было отлично известно в городе, потому что они все носили синие майки и кепки, а моя маленькая дочка – серую юбку.
Однажды с нами был князь Виктор Барятинский[44], и я спросил его, не желает ли он поплыть с детьми в лодке. Как старый моряк, он сказал, что ему бы этого очень хотелось, но, поскольку он сильно страдал подагрой, то сказал детям, что если упадет в воду, это будет для него смертельно. Это, однако, их не напугало, и они взяли его в долгую прогулку по Лагуне, вернувшись без каких-либо неприятностей.

Князь Виктор Иванович Барятинский
Я дал этой маленькой лодке имя «Mi no eh!», что на венецианском диалекте означает «Это не я», так как знал, что в маленьких каналах у детей будут постоянные проблемы с другими лодками, и всегда будут возникать споры «кто виноват». Все будут твердить: «Это не я!» («Mi no eh!»).
…Красота Венеции полностью зависит от близких отношений, которые существуют между водой и городом, и эти отражения делают вид Венеции уникальным. К сожалению, с тех пор, как появились пароходы, и, кроме того, «lancie» (катера), создающие волны по обеим сторонам каналов, эта характерная черта венецианской красоты сильно ослабла.
Венецианские улочки и храмы
Купив собственный палаццо за 15 тысяч франков – небольшую сумму для дома на Большом канале – я очень этим гордился. Но каково было мое разочарование при встрече с одним венецианцем, которому я рассказал об этой покупке, когда тот заявил, что я купил только половину дома, принадлежавшего, в действительности, двум разным владельцам. Увы, вскоре я обнаружил, что это правда. Я не понимал раньше, что в Венеции дома можно разделить на этажи, и поэтому был вынужден купить теперь другие этажи, заплатив на 18 тысяч франков больше. Эти непредвиденные расходы заставили меня продолжать работать над акварелями, не надеясь на устройство научной лаборатории. Когда я внимательнее присмотрелся к своему приобретению, то увидел, что для того, чтобы сделать его пригодным для жизни, я должен был потратить еще более 100 тысяч франков.
Не имея пока имени как художник, я мог надеяться собрать такую сумму, только установив минимальную цену на свои акварели и в то же время, максимально увеличив их количество. Вскоре я понял, что на необходимые 100 тыс. франков, не говоря уже о стоимости маленькой научной лаборатории, потребуется три года работы по десять-двенадцать часов в день. Это открытие огорчило меня, и я должен был смириться с тем, что идея осуществлять два вида деятельности одновременно, а именно – науку и искусство, оказалась невозможной. Необходимость попрощаться с наукой, где я уже сделал себе имя, и положить конец общению с несколькими коллегами, которые, вероятно, посчитают меня дезертиром, ввергла меня в уныние. Моя печаль в то время было неописуемой. Если бы я мог предвидеть, что двадцать лет спустя унаследую великолепное поместье с возможностью применить свои научные знания на практике[45], я бы покинул тогда Венецию, удовольствовавшись доходами от Сычёво и устроившись в немецкий университет.

Палаццо Волкофф
Весь день я рисовал в гондолах или на улочках, а вечером отдыхал, посещая общество. Работа на венецианских улочках – которая скоро станет только воспоминанием – была интересна в высшей степени, и не только из-за живописной архитектуры, но и из-за местных женщин: обычно их можно было видеть у дверей их домов с детьми, игравшими там целыми днями, плачующими и жестикулирующими. Никогда не забуду ответ маленькой девочки лет шести, игравшей в конце улицы, когда ее мать, стоявшая рядом со мной, закричала ей: «Vien qua, presto, curri in sto momento!» («Иди сюда быстро, сей момент!»). «Neanche in un momentin di sto momento non vegno» («He приду даже и в моментик сего момента!»), – ответил ребенок, давясь от смеха.
Первую мою действительно значительную акварель я выполнил в церкви дей Фрари. Я назвал ее «После мессы», и эта работа заняла у меня все три зимних месяца. Меня закрывали внутри церкви с двенадцати до пяти часов, в то время как четверо кустодов[46] сидели у входа, чтобы открывать двери для посетителей, которых они ждали с величайшим нетерпением ради чаевых. Иногда они пререкались между собой, а иногда общались самым дружелюбным образом. Эти кустоды были мне интересны с психологической точки зрения. Вероятно, они были честными людьми, так как духовенство доверяло им ценные предметы, какими обычно обладают католические храмы: надгробия, картины, алый дамаст в изобилии, подсвечники и кружки для сбора в пользу бедных – всё это было в их ведении. Зимой, когда никто не заходил в храмы целыми днями, они часами сидели вместе, выглядя подавленными и полусонными. Однажды я видел, как они с величайшим интересом наблюдали, как восковой фитиль, который они нашли на земле, горел в руках одного из них, и были довольны, как дети, когда их товарищ, наконец, обжег пальцы.

Базилика дей Фрари, фото конца XIX в.
Как-то один художник копировал склеп Антонио Кановы в церкви дей Фрари и привел несколько молодых женщин в качестве моделей, чтобы поставить их на передний план. Женщины были веселыми, и раз я подсмотрел, как они проводили эксперименты в центре церкви, желая увидеть, сколько раз каждая из них могла повернуться на пятке. Их маневры настолько заинтересовали кустодов, что трое из них, хотя и были стариками, начали подражать пируэтам на пятках. Это продолжалось минут двадцать к радости всей компании. Глядя на них, кто-то мог бы предположить, что эти люди недоразвиты.
Удивительным образом всё это мне встречалось во всех церквях, где приходилось работать; кустоды, похоже, принадлежали к одному и тому же глуповатому людскому типу, несмотря на то, что церковные власти, похоже, могли полагаться на их честность. После многолетнего опыта работы с ними в разных храмах я теперь лучше понимаю их характер и часто спрашиваю себя, была ли идиотическая их сторона унаследована с рождения или она происходила от постоянного проживания в ненормальных условиях. Все они страдали от ревматизма, потому что вполне достаточно было провести несколько зимних дней в венецианском храме, чтобы получить эту хворь, а они проводили там всю свою жизнь.
Начинающий гений
Однажды несколько женщин привели мне мальчика лет десяти. «Смотрите, господин художник», – сказали они. «Вот гений, который умеет рисовать всё, что видит. Пожалуйста, помогите ему с его работой, синьор. Вы сделаете хорошее дело, потому что ни ему, ни его родителям нечего есть».
Чтобы угодить этим дамам, я отдал свою тетрадь и карандаш начинающему гению и велел ему идти в конец улицы, чтобы нарисовать лодку, которая стояла на якоре на расстоянии около ста метров, выказывая только корму и несколько мачт, находившихся так близко друг от друга, что нужно было внимательно присмотреться, дабы различить их количество. Мальчик сел за работу, и я со своего места видел его, пристально смотрящего на лодку, а затем наклонявшегося над своей тетрадью, лихорадочно рисующего, иногда стирая линии одолженным мною ластиком.
Не прошло и часа, как женщины, которые оставили меня, чтобы с интересом следить за подвигами своего протеже, вернули его с триумфом.
«Посмотрите, господин художник, посмотрите на лодку, разве она не похожа на себя?»
В самом деле, это была именно та лодка, и ее очертания были нарисованы довольно опытной рукой, но всё в профиль.
«Ты действительно видишь лодку такой?» – спросил я ребенка, который стоял передо мной, гордясь собой.
«Да», – с готовностью ответил он.
«А расстояние между тремя мачтами – ты действительно видишь, что они отстоят так далеко друг от друга?»
«Я знаю, что они далеко друг от друга, – сказал ребенок с довольным видом, – потому что лодка большая».
Не говоря ни слова, я взял мальчика за руку и довел его до конца улицы, где начал рисовать в его присутствии, пытаясь направить его внимание на различные линии лодки, объясняя метод определения длины этих линий, сравнивая их друг с другом, и указывая на основные углы, которые необходимо отметить. Ребенок покраснел и растерялся, повторяя после моих замечаний, производивших на него эффект откровения: «Да, это правда, это правда, это правда!».
Всё это показывало, что способность к прогрессу, приобретенная ребенком в то время, когда он начинает осознавать способ передвижения и движение, мало возрастает в последующие годы. Ребенок проходит через них, не чувствуя необходимости сравнивать или дополнять формулы, которые он для себя подготовил и которые он любит чирикать в своей тетради, чтобы иллюстрировать маленькие выдуманные истории. Из всех законов, данных природой человеку с его раннего детства, наиболее трудным для осуществления является закон двигательной активности. Участие органа зрения в решении этой проблемы очевидно. Без помощи этого фактора ни один ребенок не может научиться, ни измерять расстояния, ни сравнивать их, что является обязательным условием избежать столкновения и неудачи любого рода.
За счет своего тела ребенок учится ходить, выбирать кратчайший путь для достижения своей цели и перепрыгивать через канавы или прыгать с высоты, не ломая шею. От той быстроты, с которой он способен наблюдать и измерять расстояние между собой и своими товарищами, зависит его успех в большинстве игр. Позиция детей в этом отношении часто настолько замечательна, что можно было бы поддаться искушению полагать, что они способны сделать эти выводы непосредственно, как только они смогут оценивать контуры объектов и относительную длину линий и их направление. Но это не так. Всё, что дети рисуют в возрасте от пяти до семи лет, доказывает нам, что они рисуют не то, что видят, а то, что, как они знают, должно существовать, и делают это, преобразуя множество визуальных впечатлений, которые воспринимают в природе, в равное количество графических формул.
Поместите ребенка пяти лет в нескольких метрах от обычного стола и скажите, чтобы он нарисовал для вас стол. Без малейшего колебания он нарисует горизонтальную линию, поддерживаемую четырьмя вертикальными линиями, одинаковой длины. Несомненно то, что ни разу в своей жизни он никогда не видел того, что он нарисовал; ножки стола никогда не могли бы показаться ему имеющими одинаковую длину, но он знает, что они одинаковой длины, и этого достаточно.
Когда ребенок рисует коляску, он довольствуется тем, что рисует одно заднее колесо больше, а одно переднее колесо меньше, но в действительности он никогда не видел такую коляску. Если он рисует дом, это всегда квадратная или прямоугольная фигура. В этот момент такой контур можно увидеть только на огромном расстоянии; тот, в котором ребенок обычно находится, полностью искажает объекты из-за эффекта, вызванного перспективой, не постижимой для ребенка.
Из всех впечатлений, формирующихся у ребенка во время своего роста, самые сильные и уникальные – те, которые в наибольшей степени способствуют развитию аналитической стороны его ума и которые рождены его визуальными впечатлениями.
К сожалению, он скоро перестает смотреть на вещи и сравнивать их и будет довольствоваться своим знанием. Любой метод обучения был бы хорош, если бы он обязывал ребенка воспроизводить точные имитации вещей, избегая при этом преувеличения, поскольку оно исключает возможность сравнения. Я поднял этот вопрос десять лет назад в моей книге под названием «L’à peu près dans la critique et le vrai sens de l’imitation dans l’Art: sculpture, peinture»[47].
Персей становится Меркурием
Несколько лет работы привели меня к формированию суждений, которые я попытался изложить в трактате, напечатанном в Бергамо под названием «L’à peu près dans la critique et le vrai sens de l’imitation dans l’Art: sculpture, peinture» («Приблизительная оценка в критике и истинное значение подражания в искусстве: скульптура, живопись»).

Искусствоведческий трактат A.H. Волкова-Муромцева (1913)
Должен признать, что эта работа вызвала у меня большое беспокойство из-за определенных существующих в ней неточностей: главная из них совсем необъяснима.
Я мог бы даже смириться с ошибками в тексте, потому что в отличной издательской фирме в Бергамо не было ни одного сотрудника, знавшего французский. Но на странице 352 изображен знаменитый Персей Бенвенуто Челлини, держащий в руке голову Медузы. Как, черт возьми, они могли назвать этого Персея «Меркурием», даже если я по оплошности написал так? Это тем более непостижимо, так как на всех фотографиях фирмы Алинари, без исключения, стоит название изображения. Эта ошибка стала для меня еще более раздражающей, так как на самом деле нет статуи, которую я знаю лучше, чем эта статуя Персея. Когда я жил во Флоренции в возрасте тринадцати лет, эта статуя, стоящая в Лоджии [Ланци], привлекала меня каждый раз, когда я проходил через Пьяццу делла Синьория, и я всегда шёл так, чтобы видеть ее. Не то, чтобы я был очарован ей, но я хотел понять, как Медуза, которую Бенвенуто Челлини сделал такой мало ужасающей, могла произвести на людей эффект, описанный в мифах.

Статуя Персея во Флоренции (с ошибочной подписью)
Я отправил экземпляр своей книги великому художнику Джону Сардженту, и вот что он написал мне по этому поводу:
«С нетерпением жду возможности продолжить чтение Вашей работы и следовать за Вами в Вашем предприятии по приведению в точный порядок понятий и формулировок в искусстве. По мере того, как углубляешься в Вашу книгу, занятно видеть, какие удары Ваш ясный логический ум наносит банальностям и глупостям. Вы оставляете на всем пути лопающиеся мыльные пузыри и проломленные барабаны. Мне интересно увидеть, попробуете ли Вы на очищенной почве и при строгой наблюдательности Вашей экспрессии составить описание действительно великих произведений искусства».
Это письмо датировано 27 ноября 1913 года, а в 1914 году была объявлена война. Легко представить, что мой ум более не останавливался на вопросах такого характера и любое желание заняться ими ушло.
Венецианский бомонд
Иностранное общество, проводившее зиму в Венеции, в то время разделялось на три группы. Центром притяжения немцев был дом княгини Хатцфельдт[48], жившей в Палаццо Малипьеро; австрийский круг собирался у княгини Мелании Меттерних[49] в Палаццо Бембо; а космополиты – у княгини Долгоруковой[50] в ее дворце на набережной Дзаттере. Группа Хатцфельдт, самая серьезная из этих трех, едва ли имела какие-либо отношения с австрийцами или с космополитами. Помимо выдающихся немцев, которые проезжали через Венецию, там привечали художников и музыкантов; гостем княгини Хатцфельдт часто бывал Лист. Австрийцы были более веселыми и беззаботными, чаще встречались, много играли в карты, и у них действительно жизнь бурлила, особенно, когда в Венецию наведывались донжуаны типа старого графа Эстерхази[51].

Граф Мориц Эстерхази
Были и другие дома, где развлечения проходили самым очаровательным и гостеприимным образом. Существовал, к примеру, дом мадам де Пилат, жены австрийского генерального консула, и дом миссис Бронсон, американки, поселившейся в Венеции со своей единственной дочерью, позже вышедшей замуж за графа Ручеллаи из Флоренции[52]. Единственными итальянцами, вхожими в это иностранное общество, были графиня Марчелло, большая подруга княгини Долгоруковой, две княгини Мочениго, одна из которых была гречанкой, а другая – урожденной Виндишгрёц, и две невестки последней.
Среди самых популярных людей были герцог и герцогиня делла Грациа, жившие в Палаццо Вендрамин, в крыле которого жил и умер Вагнер, а также – княгиня Черногорская[53], которая, уступив свои права на престол своему племяннику Николе, поселилась в Венеции с сестрой и дочерью; мистер и миссис Иден; леди Лейярд; графиня Дрексель со своим мужем и двумя детьми; русский князь Лев Гагарин[54], долгое время живший в Венеции, и ругавший целыми днями итальянцев (он был привязан к графине Альбрицци, австрийке, получившей от него часть состояния) – вот люди, с которыми я часто встречался.
Разница между обществом сорок пять лет назад и обществом сегодняшнего дня состоит в том, что еврейских семейств тогда не принимали и они просто не участвовали во всем этом. Сегодня иностранное общество в Венеции полностью исчезло, а в итальянском обществе доминируют евреи. Даже музыкальный колледж, названный в честь прославленного Марчелло[55], обязан своим существованием евреям, так как его директор и профессора, все имеют отношение к этой расе. Однако следует признать, что ни в одной стране мира евреи так полностью не погрузились в интересы нации, среди которой живут, как в Италии, и что еще вероятно способствовало установлению такого хорошего взаимопонимания, это то, что итальянцы, будучи южной нацией, физически намного меньше отличаются от еврейской, чем северные народы.
Самыми сердечными были мои связи в кругу княгини Хатцфельдт. Она была дамой шестидесяти пяти лет, обладавшей большим интеллектом и интересовавшейся всем, хотя и глухой, но думаю, что ее глухота помогла нашей дружбе, потому что в тридцать семь лет у меня были великолепные легкие и я никогда не уставал разговаривать с ней достаточно громко. С ней рядом всегда находились два-три человека, кроме ее дочери баронессы Шлейниц[56], часто навещавшей ее; но главным украшением ее гостиной была молодая женщина, которую княгиня любила так, как будто она была ее собственной дочерью. Это была дочь знаменитого австрийского генерала барона Габленца, в замужестве за итальянцем, господином Актоном[57], братом знаменитой донны Лауры Мингетти из Рима, – одним из тех Актонов, которые, будучи моряками, отличились в трагической битве при Лиссе[58]. Этот господин Актон вскоре умер, почти ничего не оставив своей жене, но с помощью, оказываемой матерью, ей хватало на питание и на жизнь в Венеции в обустроенной ею со вкусом маленькой квартирке.

Палаццо Мапипьеро
Я видел часто мадам Актон. Она была заметной красивой дамой, обладала выдающимся умом и остроумием. Ее очаровательные простые черты, особый цвет лица, нежный, как у ребенка, производили еще большее впечатление, потому что ее красивые глаза были полны жизни и решимости. Ее характер являлся результатом сочетания двух совершенно разных натур: одна из них была отмечена тенденцией к объективности, тогда как другая склонна была быть субъективно-преувеличенной. Эта природная многогранность очаровывала людей. Скорость, с которой ее эмоции сменяли идеи одну за другой, часто подводили ее, вынуждая казаться фальшивой, тогда как никто не был более искренним, чем она. Многие люди никогда не могли понять ее, особенно ее мать, а ведь она ненавидела всё ложное, особенно фальшивые чувства.
Однажды вечером ее муж, будучи больным, подошел к двери в халате, держа в каждой руке по подсвечнику, и сказал: «Матильда, я умираю».
Она же ответила: «Мой дорогой, умирающие люди так не расхаживают»; и отвела его обратно в свою комнату, не проявив ни малейшей жалости к больному человеку. Она знала, что «я умираю» было намеренно преувеличенным, и это охладило ее.
Суровая по отношению к себе, она также была жесткой к другим, особенно к тем, кого не любила. К примеру, она знала все хитрости гондольеров, и первая мысль, которая пришла ей в голову во время эпидемии в Венеции, была о том, что польза этой инфекции – в уменьшении численности гондольеров[59].
Когда она обсуждала какую-либо тему с мужчинами, чьи идеи были неразумны или запутанны, она отвечала им с неоспоримой логикой – так, что те предпочитали изменить тему разговора.
Однажды вечером у княгини Хатцфельдт, когда там присутствовал граф Гобинб[60], чьими произведениями Вагнер безмерно восхищался, этот писатель вступил в конфликт с мадам Актон по вопросу о ясновидении. Он рассказал историю о случае, когда, гуляя по парижским бульварам, ему внезапно привиделось, что башня, которую он видел где-то в Индии или Китае, рушится. Несколько часов спустя, первым, что он увидел в газете в кафе, была публикация этого факта.
«Но тогда, – сказала мадам Актон, – ясновидение применимо к новостям, напечатанным в газете, а не к падению башни, давно уже бывшей в руинах, когда Вам это привиделось».
Это замечание весьма не понравилось видному писателю. Известный австриец, директор какого-то научного колледжа, который всю свою жизнь занимался археологией, однажды объяснял княгине Хатцфельдт, почему в искусстве произошел такой упадок и почему искусство ныне истощается. Он заявил, что это происходит потому, что, сказав всё, искусство может либо повторяться, либо скатываться вниз. «Взгляните на скульптуру греков или картины голландцев и итальянцев. Что может быть более красивым? Взгляните на Аполлона или, хотя бы, на одну из Мадонн Беллини».

Граф Жозеф-Артюр де Гобино
«Однако два Аполлона, – возразила мадам Актон, – явились бы прогрессом в искусстве; и если бы многие люди писали, как Беллини, это также стало бы шагом вперед». Ее мнения были ясными и точными.
«Не забудьте, – писала она мне из Парижа, – сходить и посмотреть в Люксембурге картины русской мадемуазель Башкирцевой[61], ученицы Бастьена Лепажа[62]. Она умерла в возрасте двадцати пяти лет, и о ней много говорили; она была своего рода рано созревшим гением. После ее смерти ее дневник был опубликован, и у меня сложилось впечатление, что она была амбициозной и одаренной девушкой, но всё же не похожей на настоящего гения». И ее оценка справедлива.


