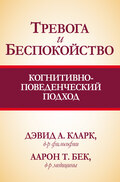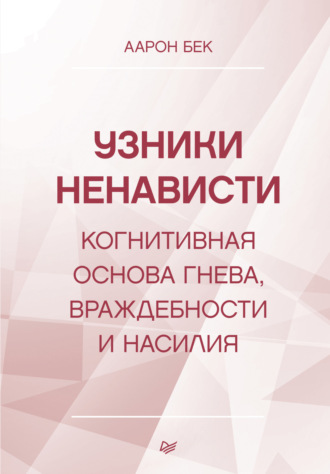
Аарон Т. Бек
Узники ненависти: когнитивная основа гнева, враждебности и насилия
Вина, тревожность, стыд и подавление
Хотя некоторые авторы, такие как Рой Баумайстер, полагают, что чувство вины является главным фактором, сдерживающим вредоносные поступки, на самом деле это чувство редко возникает во время агрессии[32]. Люди могут испытывать чувство вины после того, как что-то сделают, и могут рассматривать это как неправильное. Именно когда они оценят свои действия и придут к выводу, что нанесли необоснованный вред другому человеку, может возникнуть чувство вины. Воспоминания о подобного рода инциденте способны влиять на поведение индивидуума в следующий раз, когда он окажется в похожей ситуации. Память выступает сдерживающим фактором, так как подвигает человека воздержаться от того, чтобы сделать нечто, что – как он осознает – позднее заставит его раскаяться.
Например, я слишком критично отношусь к своему помощнику. Я понял это после того, как обидел его, поэтому чувствую себя неловко. Данное событие ведет к появлению правила: «Впредь будь более сдержан в критике». В следующий раз, когда – и если – мой помощник допустит ошибку, а я буду склонен обвинить его в ней, воспоминания о прежних недоразумениях вместе с недавно установленным для себя «правилом сдержанности» в поведении вызовут у меня чувство вины; тогда я сдержу импульс критицизма и не дам ему зайти слишком далеко. Кстати, я распространю действие этого своего внутреннего правила на возможные критические реакции и отношения с другими людьми.
Эмпатии, направленной на объект раздражения и даже враждебных проявлений, часто оказывается достаточно, чтобы агрессор «притормозил» и, прежде всего, не нанес какого-либо реального вреда. В рамках когнитивной терапии мы успешно применяем методику развития эмпатии с целью облегчить потенциальному агрессору возможность отождествить себя с потенциальной жертвой (см. главу 8).
Некоторые заповеди, которые буквально вбивают в наши головы в раннем возрасте, создают основу для выработки внутренних правил, которые могут повлиять на дальнейшее поведение. Даже маленькие дети понимают, что неправильно причинять боль товарищам – тем, с кем они играют, или навлекать на них неприятности. Однако, когда негативный импульс, побуждающий навредить другому ребенку, очень силен, они разрешают себе нарушить правило: интенсивность импульса позволяет найти оправдание тому, во что этот импульс выливается (например, «она меня первая ударила»). Точно так же взрослые люди обычно считают аморальным осознанное физическое насилие по отношению к другим. Способность к эмпатии помогает зафиксировать в голове: «Это неправильно!»
Есть множество свидетельств того, что солдаты и полицейские считали для себя невозможным казнить заключенных «в упор»[33]. Кристофе Браунинг описывал, как солдат из немецкого карательного батальона, на которых возлагалась обязанность убивать евреев в Польше, начинало буквально тошнить, и они были вынуждены побыстрее убраться[34]. К сожалению, такие солдаты или служащие тайной полиции, которых поначалу «на автомате» возмущали пытки или убийства, после участия в нескольких актах подобного рода теряли чувствительность к отвратительным поступкам. В самом деле, некоторые из них даже начинали наслаждаться ощущением своей власти и убежденности в собственной правоте. Такая реакция наводит на мысль о том, что первоначальное отвращение связано с эмпатической идентификацией себя с жертвой, а не с чувством вины. Когда же она (идентификация) сходит на нет, пропадает и отвращение.
Ощущение тревоги в предчувствии последствий своего вредоносного поведения запускает другой важный механизм автоматического торможения. Когда человек мобилизует себя на жестокое обращение с другим человеком, страх мести с его стороны или наказания со стороны государства, властей может ослабить враждебный импульс. Например, старший брат, собираясь ударить младшего, может на мгновение представить себе рассерженного родителя и сдержаться. Страх быть заклейменным позором тоже способствует предотвращению пересечения красных линий в отношениях с соперниками и оппонентами. Понимание нашего образа в глазах общества способствует значительному контролю за своими действиями, ибо такое понимание способно вызвать стыд и внутренние муки.
Помимо факторов, можно сказать, негативного характера, сдерживающих антиобщественные действия, существуют положительные факторы, способствующие доброжелательному поведению. В общем и целом мы склонны думать о себе как о взрослых и доброжелательных людях. Всяческие проявления импульсивного поведения говорят о незрелости, в то время как самоконтроль позволяет гордиться собой. Сдержанность также помогает укрепить наше собственное представление о себе как о стоящем и дельном человеке, с которым хочется иметь дело. У всех есть идеалы, ценности, стандарты поведения и ожидания, часто инкорпорированные в индивидуальные системы внутренних предписаний и запретов относительно того, как «следует» и «не следует» делать, поступать или вести себя. Обычно мы довольны собой, когда соответствуем собственному идеальному представлению о себе, и недовольны, если от него отклоняемся. Можем счесть, что какое-то наше действие, принесшее вред, недостойно нас, почувствовать вину и раскаяние. Наконец можем принять взвешенное решение обуздать враждебный импульс не из-за чувств стыда, вины, тревоги или по причине развитой самокритичности, а потому, что это лично неприемлемо.
Хотя механизмы тревожности, вины и стыда могут сдерживать проявления враждебности, они не затрагивают факторы, которые подобные проявления в первую очередь провоцируют. Далее, заповеди «не убий» и «не причиняй вреда другим» могут затормозить импульсы враждебности, но не способны их погасить. Критически важно разобраться во внутренних убеждениях, которые позволяют нам игнорировать эти заповеди и оправдывать пренебрежение ими.
Нравственный парадокс: когнитивная проблема
25 октября 1994 года доктор Барух Голдштайн открыл огонь из автоматического оружия, убив и ранив около 130 мусульман во время молитвы в мечети, в пещере Патриархов палестинского Хеброна. Он был уверен, что выполняет божью волю, а придерживающиеся жестких позиций израильские поселенцы приветствовали его как героя. Исламские фундаменталисты, обвиненные во взрыве бомбы во Всемирном торговом центре в 1993 году, кричали «Бог велик!», когда им выносился приговор. Майкл Гриффин – активист движения «За жизнь» – был уверен, что выполнял христианскую миссию, когда убивал дежурного врача в клинике города Пенсакола во Флориде, где делали аборты[35].
Все эти очевидно деструктивные акты обнажают парадокс. Иудаизм, ислам и христианство – религии, которые были использованы экстремистами для оправдания своего деструктивного поведения, – проповедуют приверженность к любви и миру. Но боевики, принадлежащие к этим конфессиям, рассматривали совершенные ими акты насилия как осуществление основных положений своих религий, а не как что-то, им противоречащее. Интересно, что деструктивные действия религиозных экстремистов очень редко приводят к преследуемым ими целям. Наоборот, такие акты насилия часто разворачивают широкое общественное мнение против них, несмотря на то что группировки, к которым они так или иначе имеют отношение, приветствуют их как героев.
Злоумышленники демонстрируют типичное дихотомическое мышление – извращенно клеймят своих жертв как преступников и прославляют истинных преступников как героев. Такое дуалистическое мышление характерно для систем внутренних убеждений различных культур, им буквально пропитаны основные мировые религии[36]. И Библия, и Коран разделяют вселенную нравственности на абсолютные категории добра и зла, на Бога и Сатану. Правоверные, участвующие в убийствах (и таким образом нарушающие базовые догматы религий), в своей извращенной логике рассматривают жертв как представителей глобального Зла. В исламских священных войнах (джихаде) или в христианских крестовых походах бесчисленное множество людей разных вероисповеданий было убито во имя Аллаха или Иисуса. Даже Гитлер оправдывал массовое истребление евреев именем Всевышнего[37].
Очевидно, что религиозные институты, в лучшем случае, частично преуспели в решении проблемы и индивидуального, и массового насилия[38]. Что может предложить в этом плане знание психологии индивидуума? Выделение психологических факторов, которые приводят к насилию, может дать базис для понимания чувства гнева, феноменов враждебности и насилия. На данной основе, в свою очередь, можно разработать – для отдельных индивидуумов и масс – стратегии, как справляться со своими реакциями враждебного характера и разрешать конфликты между разными группами людей и целыми государствами.
Неудачные попытки снизить частоту и остроту проявлений антагонистического поведения на основе только моральных кодексов могут быть проанализированы в терминах когнитивных структур, которые возбуждают и оправдывают вредоносные действия. Понимание примитивно-первобытных мышления и внутренних убеждений может стать первым шагом в разрешении этого морального парадокса. Когда человек чувствует, что он сам или что-то для него святое поруганы либо находятся под угрозой, его сознание возвращается в состояние категоричного и дуалистического мышления. А когда активирован примитивно-первобытный образ мышления, он на автомате готовится к нападению, чтобы защитить свои высшие ценности. Враждебный настрой захватывает весь мыслительный аппарат, вытесняя остальные человеческие качества, такие как эмпатия и нравственность. Подобный образ мышления активируется, и когда причиняющий зло и вред человек действует в одиночку, и когда он совершает агрессивные действия в толпе. Если подобную последовательность развития враждебных мыслей и проявлений не прервать, она развивается от восприятия (или трансгрессии) через подготовку и мобилизацию до реального нападения и реальной агрессии.
Решение когнитивной проблемы
Основные психологические проблемы, способствующие возникновению гнева, враждебности и насилия, мы обсудим в следующих главах. Сейчас же вкратце скажем, что решение «проблемы враждебности и ненависти» в межличностных конфликтах имеет две фазы. В первой следует сконцентрироваться на «деактивации режима враждебного ответа» – как только срабатывает механизм запуска такого режима. Есть множество методов, позволяющих во время разгорающегося конфликта найти место для «охлаждения горячих голов». Переключение внимания тоже помогает выйти из первичного режима. Спустя какое-то время, достаточное для того, чтобы стороны обрели способность анализировать и видеть, к каким перспективам могут привести их реакции, они смогут и изменить свои неправильные интерпретации поведения друг друга.
Подход, в принципе способный привести к более устойчивому решению проблем, имеет дело с воздействием на восприятие индивидуумом уязвимого положения самого себя и группы людей, к которой он или она принадлежит, либо своих фундаментальных ценностей. Обычным людям, как и общественным или политическим лидерам, необходимо в большей мере осознавать особенности «жесткого» типа мышления, который захватывает контроль над их разумом, когда чувствуется угроза. Им следует понимать, что в своих суждениях и оценках они выходят за рамки рациональности, когда начинают интерпретировать поведение других исключительно в терминах абсолютного добра и абсолютного зла или чего-то святого, противостоящего чему-то нечестивому. Необходимо оставаться способным оценивать поведение людей или групп в соответствии с более объективными критериями и сопротивляться тенденции приписывать другим принадлежность к абсолютным категориям, таким как «чужак» или Враг. И важнее всего осознание, что ты можешь быть ужасно неправ в своей характеристике другого человека и его мотивов, а если все свои действия основывать именно на таких характеристиках, это часто приводит к трагическим результатам.
Последние работы по вопросам когнитивной и социальной психологии в значительной степени углубили наше понимание процесса бессознательной обработки в человеческом мозге полученной предвзятой информации, особенно того, что касается таких проявлений, как предрассудки, не признаваемые таковыми, или касательно разжигания вражды в отношениях[39]. Кроме того, современные работы по антропологии, социологии и политическим наукам открывают бо́льшие перспективы для анализа[40].
Новые исследования в области эволюционной психологии расширяют временны́е рамки – периоды, которые следует принимать во внимание, размышляя о природе человеческого поведения. Некоторые авторы, начиная с Чарльза Дарвина, выдвигали предположение, что немало элементов социального и антисоциального поведения базируется на биологических факторах. Такие виды антисоциального поведения, как обман, жульничество, грабеж и даже убийство, могут проистекать из примитивных поведенческих шаблонов, следование которым способствовало выживанию и воспроизведению рода в доисторические времена. Эти авторы также предлагают основанное на принципах эволюции объяснение такого просоциального поведения, как сотрудничество, альтруизм и родительская забота о детях[41]. Но они не сформулировали тему, которую уместно обсудить в этой книге: эволюцию когнитивных паттернов, в особенности того, что относится к первобытному мышлению.
Другие исследователи, например Пол Гилберт, делали упор на важности социальных связей во времена палеолита[42]. Предположительно опасность быть отвергнутым сообществом или утратить в нем статус уже в те времена сказывалась на перспективах выживания и воспроизводстве рода. Такое давление способствовало развитию тревоги по поводу опасных последствий тех или иных действий, а это препятствовало закреплению в сознании представления о допустимости поведения, в результате которого индивидуум отторгался бы группой, сообществом и не мог бы ни с кем спариваться. Исключенный из группы по причине нежелательного поведения индивидуум оказывался лишен источников совместно добытой пищи и защиты от хищников. Оказавшись слабо защищенным от нападений со стороны как человеческих существ, так и животных или подвержен голоду, он в значительно меньшей мере имел возможность спариваться и иметь потомство.
Встроенный механизм, вызывающий страх быть отвергнутым или получить пониженный статус в группе, может рассматриваться как важный фактор развития привычки к групповой солидарности. Приобретенные в результате эволюции эмоциональные реакции типа стыда, тревоги и чувства вины создали прочную основу для того, чтобы моральное поведение в обществе стало считаться нормой. Но этот механизм, возможно способствовавший адаптации к внешним условиям в доисторические времена, в значительной степени не соответствует нашему времени.
Другие авторы также полагают, что давление механизма эволюции привело к развитию общественно полезных и одобряемых характеристик[43]. Кажется, люди от рождения имеют встроенную в сознание программу, которая усиливает общительность в поведении. Так как людям доставляют удовольствие сотрудничество и альтруизм, педагоги, религиозные лидеры и «социальные инженеры» могут использовать данные факторы для противостояния нежелательному, агрессивному поведению в обществе и наоборот – продвигать и поощрять нравственное поведение.
Глава 2
Глаз бури
Эгоцентрическое искажение
Что вызывает враждебность? Вообще говоря, испытаем мы гнев, тревогу, грусть или радость от конкретного случая столкновения с кем-то или чем-то, зависит от нашей интерпретации случая и от того, какое значение, какой смысл мы ему приписываем. Если мы никак не интерпретируем событие до того, как на него среагировать, наши ответные эмоциональные реакции проявятся волей-неволей, как и наше поведение, безотносительно специфических обстоятельств. Когда мы выбираем и обрабатываем информацию корректным образом, нам чаще всего удается извлечь для себя то, что действительно имеет отношение к этим обстоятельствам. В результате наши чувства и поведение будут подобающими, соответствующими им. Если придаваемый индивидуумом смысл – «я в опасности», то будет преобладать чувство тревоги; если «меня оскорбили», то злость; если «я одинок», то печаль; если «я любим/любима» – радость.
Однако если по какой-то причине я припишу некоему событию ошибочный смысл или преувеличенное значение, могу испытать тревогу, когда, по идее, должен был чувствовать спокойствие, или радость вместо грусти… Когда процесс обработки информации подвергается влиянию предвзятости (или когда полученная информация ошибочна), мы склонны реагировать несоответствующим образом.
Предубеждения и предвзятость могут оказывать влияние на процесс обработки информации на неосознанном уровне, начиная с его начальных стадий[44]. Слишком чувствительная женщина может интерпретировать сказанный знакомым мужчиной от чистого сердца комплимент как оскорбление; через секунду она сердито огрызнется в ответ. Ее интерпретация на его ремарку: «Он меня унижает». Если она настроена на то, что мужчины ее отвергают, то будет интерпретировать невинное высказывание как нечто унизительное.
По поводу того, что такое «быть жертвой»
Рассмотрим следующие сценарии. Водитель грузовика ругается на другого, который ведет машину медленнее, чем он, и обвиняет его в том, что тот препятствует движению. Менеджер бранит работника за несделанный отчет. Бо́льшая страна нападает на ме́ньшую, но гордую и сопротивляющуюся, потому что последняя обладает огромными запасами нефти. Интересно отметить, что при всей очевидной разнице между «жертвами» и «обидчиками» в этих примерах в каждом случае агрессор склонен выставлять жертвой именно себя: водителю грузовика мешают работать, менеджера не слушают, вторгающейся стороне противостоят в реализации национальных интересов. Агрессоры твердо и свято верят, что их дело – правое, именно их права попраны. Объекты же гнева, являющиеся истинными жертвами в глазах непредубежденного наблюдателя, кажутся агрессорам нарушителями, преступниками.
Агрессивно настроенные люди, манипуляторы обычно считают, что их права имеют приоритет перед правами других. Агрессивные нации оперируют лозунгами типа «необходимости большего жизненного пространства» (Германия) или «права на принудительное отчуждение собственности» (Соединенные Штаты) и рассматривают противодействие им со стороны более слабых стран в значительной степени так, как агрессивный водитель воспринимает своего более медленного соседа по дорожному движению как нечто препятствующее в достижении своих законных целей.
Будучи членами какой-то группы, сообщества, люди могут выказывать аналогичный тип предвзятого мышления, который проявляется в межличностных конфликтах. Враждебность – охватывающая группу людей, толпу или отдельно взятого человека – произрастает из одних и тех же принципов: восприятие своего противника неправильным и плохим, а самого себя – правильным и хорошим. В обоих случаях агрессор демонстрирует одно и то же «нарушение мышления»: склонность к истолкованию всех фактов только как поддерживающих его позицию, преувеличение масштабов предполагаемой трансгрессии и приписывание оппоненту злого умысла.
Неся в себе наследие предков, имеющее прямое отношение к способности выживать, мы в значительной мере осознаём истинное значение событий, которые могут оказать пагубное действие на наше благополучие и личные интересы. Мы очень чувствительны к действиям, предполагающим наше унижение, навязывание нам чего-либо помимо нашей воли или вмешательство в то, что относим к сугубо личной сфере. Мы следим за поведением других людей, чтобы иметь возможность мобилизовать наши защитные механизмы на противостояние любым действиям или заявлениям, носящим более-менее выраженный вредоносный характер. У нас есть склонность приписывать негативные свойства вполне невинным действиям и оценкам, а также сильно преувеличивать их значение для нас. В результате мы особенно склонны ощущать обиду на других людей и испытывать по отношению к ним гнев.
Тенденция к чрезмерно острому истолкованию различных ситуаций, опираясь только на собственную систему взглядов, является выражением эгоцентрической точки зрения. Когда мы находимся под влиянием стресса или чувствуем угрозу, наша сконцентрированность на собственной персоне в мышлении обостряется; одновременно область того, что нас задевает и кажется сферой наших интересов, расширяется до не относящихся к нам (или относящихся весьма отдаленно) событий. Из множества поведенческих шаблонов, просматривающихся в поведении другого человека, мы выбираем лишь те, которые могут повлиять на нас лично.
Нас особенно тянет объяснить кажущееся враждебным поведение другого человека с эгоцентрических позиций. Если жена чем-то сильно занята, когда ее муж возвращается домой с работы, он может решить: «Ей нет до меня дела», хотя подобный вывод делается при явном пренебрежении тем фактом, что она может быть просто уставшей и поглощенной какими-то несделанными домашними делами – и тоже после рабочего дня вне дома. Он предполагает, что недостаток внимания вызван тем, что любовь жены к нему угасла.
Мы все склонны рассматривать себя главными героями пьесы и делать выводы о поведении окружающих исключительно с позиции того, как оно отражается на нас. Еще раз: мы берем на себя роль главного героя, другие персонажи при этом являются либо нашими сторонниками, либо антагонистами. Мотивация и действия других некоторым образом всегда вращаются вокруг нас. Как в старомодной пьесе, где сделан упор на морализаторство, мы невинны и являемся воплощением добра, наши противники – злодеи и воплощения зла. Эгоцентризм заставляет нас думать, что и другие оценивают ситуацию точно так же, как мы. Значит, они виновны дважды – потому что «знали», что вредят нам, но так или иначе упорствуют в своем вредоносном поведении. В «горячих» конфликтах агрессор тоже рассматривает все исходя из эгоцентричных перспектив, а это порождает порочный круг обид, гнева и стремления отомстить.
Эгоцентричная ориентация заставляет нас сосредоточить внимание на контролировании поведения и предполагаемых намерений других «персонажей пьесы». У нас имеются не выражаемые явно, но всегда подразумеваемые правила (для других) типа: «Ты не должен делать ничего, что может меня расстроить». Так как мы запросто применяем эти правила в слишком широком контексте, слишком грубо и негибко, то постоянно оказываемся уязвимы и зависимы от поведения других людей. Мы возмущаемся из-за собственного восприятия того, что наши правила оказываются нарушены, а поскольку отождествляем свою личность с набором этих правил, также чувствуем себя оскорбленными и подвергшимися насилию. Чем в большей степени мы относим на свой счет события, которые вообще-то никакого отношения к нам не имеют, или преувеличиваем значимость того, что к нам относится, тем легче нам причинить боль. Наши собственные правила, созданные для самозащиты, неминуемо нарушаются, потому что окружающие действуют по своим эгоцентрическим правилам. Даже будучи осведомлены о наших правилах, они – другие – не настроены допустить, чтобы их контролировали наши (чужие) правила.
Влияние эгоцентрического сосредоточения на себе четко прослеживается в отношениях между близкими людьми, в частности в браках, ставших проблемными. Пример: Нэнси пришла в ярость после того, как Роджер сделал бутерброд себе, но даже не спросил, хочет ли бутерброд и она. Здесь Роджер нарушил внутреннее правило Нэнси: «Если я небезразлична Роджеру, он должен всегда делиться со мной, хотя бы предлагать». В тот момент Нэнси не хотела бутерброд, но сам факт, что Роджер ничего ей не предложил, означал – в соответствии с ее правилом – невнимательность к ней с его стороны, то, что ему плевать на ее желания. Даже когда Роджер ответил на полную негатива реакцию, предложив-таки сделать ей бутерброд, это не помогло исправить ситуацию: он уже «продемонстрировал», что она ему безразлична. В результате Нэнси надулась и обиженно замолчала.
Заходя со своими ожиданиями слишком далеко, Нэнси сделала себя более уязвимой и поэтому в большей мере подверженной чувствам гнева и обиды. С другой стороны, Роджера не заботило, предугадывает ли Нэнси его желания, однако он оказался весьма чувствителен к проявлениям стремления другого человека его контролировать. Роджера охватило раздражение, когда Нэнси, надувшись, ушла в себя: он решил, что так жена хочет его наказать. В глазах Нэнси она сама была жертвой, Роджер – «злодеем», а в глазах Роджера жертвой являлся он, Нэнси же выступала в роли «злодейки».
Парадокс в том, что правила, которые для себя и внутри себя выстраивает индивидуум и которые призваны защитить его от боли и вреда, на самом деле делают его более уязвимым. Более адекватное и соответствующее реальному положению вещей правило для Нэнси звучало бы так: «Если Роджер не чувствует моих желаний, я расскажу ему о них». Такое «процедурное» правило, в случае его успешного применения, помогло бы ей достичь желанной цели – сделать Роджера более внимательным. С другой стороны, Роджеру пришлось бы учиться тому, что замыкание Нэнси в себе стало результатом разочарования в нем, его «толстокожести», а не формой тонкого отмщения.
Склонность видеть себя в центре сцены и относить все действия других на свой счет выражена при некоторых психических расстройствах. По мере того как эгоцентрические взгляды пациента становятся все более сильными и превалирующими, они могут затмевать истинные характеристики окружающих и затруднять взаимодействие с ними. Человек может придавать ошибочное, даже фантастическое значение их поведению. Такая предрасположенность проявляется в особо преувеличенной форме у пациентов с параноидальным расстройством, которые считают, что поведение другого, вообще-то никак с ними не связанное, направлено на них (соотнесение с собой), и без тени сомнения верят в обоснованность своих представлений об отношении других людей.
Том, двадцатидевятилетний продавец компьютеров, был направлен на обследование из-за постоянного (на протяжении нескольких месяцев) возбужденного состояния. Он все время жаловался, что прохожие на улицах таращатся на него и делают в его адрес уничижительные замечания. Так, однажды подойдя к группе незнакомцев на углу, он интерпретировал их смех как намерение привести его в замешательство, смутить, высмеять. Хотя соотнесение с собой Тома может показаться слишком далеким от того, что мы переживаем, оно показывает, какой драмой для индивидуума может оборачиваться человеческая склонность связывать поведение других людей с собой.
Эгоцентрические взгляды на окружающее можно наблюдать и при других клинических состояниях – таких как депрессия. Депрессивные пациенты связывают с собой совершенно не имеющие к ним отношения события, интерпретируя их как знаки своей ничтожности или дефективности. Типичный враждебно ко всему настроенный индивидуум, напротив, считает, что люди не всегда намеренно стремятся причинить ему вред, а мешают достичь его целей по причине собственной глупости, тупости, безответственности или упрямства. В его жизненной пьесе окружающие идиоты мельтешат у него – героя – под ногами, препятствуя выполнению великой миссии и достижению блистающей цели. Однако чем сильнее он входит в мизантропический раж, тем более вероятными становятся интерпретации «мешающего поведения других как осознанных попыток ему навредить».
Подозрительные люди видят в поведении окружающих проявление намерений помешать им, обмануть их, манипулировать ими. Термин «параноидальная проекция» применим к членам политических и религиозных организаций, которые считают, что их ценности и интересы подавляются агрессивными властями или коррумпированными группировками. В своей книге «Параноидальный стиль американской политики и другие эссе»[45] Ричард Хофштедтер описывает психологию групп людей, объединенных ненавистью к чему-либо[46], с точки зрения их непреодолимой веры в то, что коррумпированное правительство намеренно пытается нарушить их конституционные права[47].
Основная проблема в человеческих взаимоотношениях заключается в том, что наши слова и действия могут сообщать другим людям такие сигналы, которые мы не намеревались передавать. Это верно и в обратном направлении: мы придаем словам и действиям других людей значения, которые не подразумевались. Такт и дипломатичность требуют проявлять чувствительность к возможности иных восприятий того, что мы делаем или не делаем. Тот, кто стремится достичь некоторой стабильности в близких отношениях, обнаружит, что ему следует аккуратно лавировать между рифами ожиданий и интерпретаций окружающих. Этот принцип применим как к межличностным отношениям, так и к отношениям между человеческими группами и сообществами.