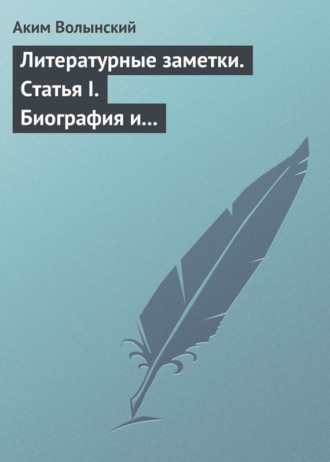
Аким Волынский
Литературные заметки. Статья I. Биография и общая характеристика Писарева
II
Уже в последних классах гимназии Писарева манило в храм свободной науки, каким ему представлялся университет. По его собственному рассказу, самые слова – студент, профессор, аудитория, лекция, – заключали в себе для него какую-то необъяснимую прелесть. Молодому, еще не жившему человеку хотелось не кутежей, не шалостей, а каких-то неиспытанных ощущений, какой-то деятельности, каких-то стремлений. Даже внешние атрибуты студенчества казались ему привлекательными: синий воротник, безвредная шпага, двуглавые орлы на пуговицах – все это пленяло воображение. Писарев не чувствовал никакого особенного влечения к определенному кругу наук. В нем не было никаких инстинктов учености и потому, когда пришлось выбрать тот или другой факультет, он «в одно мгновение ока, полюбовавшись на синеву воротника и на блеск золоченого эфеса шпаги», решил поступить на филологический факультет. Это было в 1856 году, когда Писареву исполнилось всего шестнадцать лет. В университете потянулась жизнь с новыми впечатлениями, которые должны были в конце концов расшевелить его умственную природу. Каждый год вносил в его душу новые настроения, которые толкали его на путь его настоящего призвания. Медленно, но верно просыпался в нем публицистический агитатор. На первых порах однако в Писареве нельзя было заметить никаких перемен. Это был все тот-же ребенок, одетый с иголочки, приглаженный и припомаженный и записывающий профессорские лекции в тетрадях с цветными обложками. Но в аудитории он поражал своею умственною бойкостью и подготовленностью по классическим предметам. Вспоминая это время, один из товарищей Писарева, П. Полевой, описывает нам подробно типическую фигуру юного студента. Худощавый и розовый мальчик, он выделялся среди других студентов всею своею внешностью. Его светлые волосы, темно-карие глаза и румянец во всю щеку, нежный и тоненький голосок, который часто бойко раздавался в аудитории, его способность без всякого приготовления переводить перед профессором классических авторов в чистых, литературных выражениях, его размеренная, почти методическая походка и некоторая важность в лице, – все это останавливало на себе внимание. Но Писарев, отличаясь пред каждым профессором в отдельности, все-таки не сосредоточивался ни на какой специальности. «Неумолимый демон умственного эпикуреизма», который стал в нем просыпаться по мере того, как он все ближе и ближе соприкасался с университетскою наукою, насильно увлекал его к иным занятиям, к иным интересам. Он пробовал переводить с греческого географическое сочинение Страбона, изучать историю по энциклопедическому словарю Эрша и Грубера, писать о Гумбольдте и Гегеле по известной брошюре Штейнталя, но ничто не захватывало его души. Исполняя свои работы с каким-то механическим упорством, он не находил в них ни малейшего наслаждения для своего ума. Различные научные слова и мало-понятные фразы «кувыркались» в его голове, не возбуждая в нем живого отношения к изучаемому предмету. Предложенные рефераты писались с необычными для студента литературными достоинствами, даже отдавались профессорами в студенческие сборники для печати, но его духовное развитие все-таки не делало серьезных успехов. Писарев спешил заняться чем-нибудь, хватался за разные предметы, с глухим отчаянием, с постоянной мыслью, что все это бесполезно. От философии языка бросался он к славянским наречиям, обрушивался на русскую историю, потом вдруг принимался изучать гомеровскую мифологию, потому что в голове его внезапно возникла гениальная идея, великолепно объясняющая греческое понятие судьбы или рока. Вопрос о каких-нибудь специальных занятиях становился для него мрачным, грозя сделаться неразрешимым. Его не тянуло ни к какой специальности, а между тем ему казалось, рассказывает Полевой, что он должен избрать себе специальность во что-бы то ни стало. Его отчаяние доходило до слез. Он плакал оттого, что кружок его товарищей занимался серьезно наукою, когда он переходил от предмета к предмету, и его уныние не знало-бы границ, если-бы в это самое время, на исходе второго года студенческих занятий, он не сдружился с товарищем по университету, пылким энтузиастом с проповедническими наклонностями, Трескиным. Писарев переехал от своего дяди генерала на Васильевский остров, поближе к университету и к тесному товарищескому кружку, в который ввел его новый друг, и в этой свежей обстановке он как-то вдруг повеселел и приподнялся духом. Родители Трескина полюбили его как родного сына, и старик Трескин, умный и оригинальный человек, стал оказывать на Писарева полезное влияние, сдерживая в нем некоторые порывы и возбуждая потребность в настоящей серьезной мысли.
При таких обстоятельствах наступил третий год учения Писарева в петербургском университете. Настало бурное время в жизни учащегося юношества. В начале 1858 г. студенты начали сплачиваться в тесные кружки, возникли брожения и порывистые стремления юношества к вольной жизни. В университетском коридоре как-то вдруг появились пестрые жилеты, радужные галстуки, клетчатые штаны, усы, бороды. Целые толпы студенческой молодежи осаждали университетское начальство, доказывая ему справедливость своих требований. Среди студентов появились свои сподвижники. Волна нового движения стала проникать в душу Писарева, то увлекая его к ораторству на сходках, то вызывая в нем потребность какого то шумного протеста в духе общего студенческого настроения. Он начинает чувствовать себя живым человеком в этой стихийно бушующей толпе. Его вялые нервы напрягаются до болезненности, и когда ему не удается излить в толпу свое мучительное по силе умственное волнение и овладеть ею в качестве агитатора, он разражается, как это бывало в детстве, слезами. Был случай, рассказывает Скабичевский, когда Писарев, придя в энтузиазм, расплакался на студенческой сходке. В другой раз Писарев, во время некоторых недоразумений, происшедших между студентами и одним из профессоров, увлекся до того, что лег на стол и стал барабанить ногами в стену, за которою сидел профессор, чтобы помешать ему читать лекцию… В это время Писарев еще состоял членом того кружка, с исключительно учеными целями и задачами, в который ввел его Трескин. Но в нем уже закипали сомнения, которые должны были увлечь его навстречу реалистическим стремлениям эпохи. Ум его мужал, его понятия светлели и загорались агитаторским огнем. Дух его крепчал и определял задачи для своей ближайшей, освободительной деятельности. Он проникался враждою и к университетской науке, и ко всем мертвым житейским шаблонам, сковывающим развитие человеческой личности. Неуклюжий молодой орленок, он беспомощно и напряженно кружился в своей тесной обстановке, инстинктивно стремясь к смелому полету, но не умея расправить своих от природы больных и несколько пришибленных крыльев. Фанатический приверженец чистой науки, Трескин накидывался на Писарева с жаром, с вдохновением, пылко рисуя пред ним роль ученого деятеля, призывая его к строгим университетским занятиям, а Писарев, расхаживая по комнате мерными шагами, заложив руки в карманы своего причудливого домашнего балахона и несколько приподняв плечи, по-видимому спокойно возражал ему, не изменяя себе ни единым словом, ни голосом, ни единым жестом. Сдержанно и твердо он отстаивал свое право идти в ряды литературных работников с наличным, хотя-бы и небольшим, запасом знаний, с готовностью каждую минуту открывать перед читателями то, что волнует его душу, без прикрас, без схоластических туманов, заботясь только об ясной и добросовестной передаче своих сознательных требований. Кружок давил его теперь уже больше механически, не имея прежней власти над его умом, окончательно пометившим ту дорогу, на которой ему можно будет развернуть все свои силы. Уравновешенное положение его ученых товарищей среди бурного движения, охватившего все столичное общество, раздражало его своей инертностью. Все наиболее важные вопросы, выдвинутые событиями эпохи, разъединяли его с кружком, хотя, по старой привычке, он еще участвовал в его вечерних собраниях, которые почти всегда оканчивались веселыми ужинами. Он чувствует себя теперь почти литератором, потому что стал принимать очень деятельное участие в передовом журнале для взрослых девиц, издаваемом Кремпиным. Он один из главных бойцов «Рассвета», этого своеобразного журнала с эмансипационными задачами, изящно иллюстрированными на самой обертке изображением спящей, красивой девушки, с закинутыми за голову руками, и светлого гения, который пробуждает ее, указывая ей на лучезарный диск восходящего солнца. Женский вопрос отныне станет одною из главных тем его постоянных размышлений, и в этом вопросе он не может сделать ни малейшей уступки своим отсталым товарищам. Его эмансипаторские идеи проснулись во время. Общество смутно колыхалось, и целые толпы народа, офицеров, чиновников всех ведомств, густые массы молодежи обоего пола и всех возрастов стали наполнять аудитории и коридоры петербургского университета. Умственное брожение, медленно нараставшее в Писареве, должно было теперь вырваться на полную свободу, победив лимфатический темперамент и сообщив нервам необычайную для них силу и напряжение. До сих пор тесно связанный с членами своего кружка, который сохранял строгий нейтралитет по отношению к университетским движениям, он вдруг, осенью 1859 г., стал сближаться с коноводами студенческих трупп и наиболее заметными лицами из общества, посещавшего университетские лекции. Товарищи по кружку усмотрели в этом измену своему ученому уставу. Полевой стал доказывать Писареву, что русские женщины еще не подготовлены для занятий в университетах рядом со студентами и что модному движению, охватившему петербургскую интеллигенцию, не следует придавать чересчур серьезного значения. Но Писарев, более чуткий к пробуждающимся запросам общества, твердо стоял на своем, доказывая, что в русской жизни начинается новая эпоха, что новые идеалы начинают озарять русскую историю. Споры выходили между бывшими единомышленниками горячие, с одной стороны, и блестящие, смелые, победоносные – с другой. Писарев отстаивал свои мысли со всею свежестью пионера в этой благодарной области человеческого освобождения. С обычным ораторским искусством он выдвигал свои отчетливые теоремы, рисовавшие известное мировоззрение. Его прямолинейные аргументы, ни на минуту не уклоняющиеся в сторону и нигде не принимающие отвлеченного характера, в контраст с возражениями и доказательствами его противников, звучали, как первые пробные ноты удалой, лихой песни. И от этих бурных состязаний в узкой сфере товарищеского кружка Писарев прямо переходил к агитации литературной в том органе печати, в котором он начал свою журнальную карьеру. Той-же осенью 1859 г., в октябре месяце, он печатает в «Рассвете» разбор «Обломова», в котором, подробно обрисовав характер Обломова и Штольца, посвящает шесть пылко и талантливо написанных страниц великолепному образу Ольги. Превосходное литературное дарование, еще не суженное тенденциозным отрицанием того, что было щедро заложено в его собственной природе – с широкой способностью к эстетическим оценкам и острому психологическому анализу, выступает здесь во всей красоте свежих слов, свободно льющихся выражений и афоризмов. Он передает историю её любви с изяществом молодого романтика, но романтика с новыми, прогрессивными горизонтами. Он оправдывает все её поступки, проникает в её душу и, открыв в ней самородное золото, с радостью выносит его на свет, чтобы провозгласить новую теорию женской эмансипации. Дойдя до последнего момента в истории Ольги, он сочувственно отмечает её нравственную неудовлетворенность окружающими ее условиями комфортабельной семейной жизни. её сильная, богатая природа не способна заснуть, по его толкованию, ни в какой обстановке. Эта природа, пишет он, требует деятельности, труда с разумною целью, ибо только творчество способно до некоторой степени успокоить её тоскливое стремление к чему-то высокому, незнакомому. Вся жизнь и личность Ольги, заключает Писарев, представляет живой протест против зависимости женщины, протест, который, конечно, не составлял главной цели автора, потому что «истинное творчество не навязывает себе практических целей», но который, именно благодаря своей непосредственности и силе художественного воплощения широкой идеи в образе Ольги, должен серьезно подействовать на сознание общества. Товарищи Писарева были в ужасе от статьи его. Они восхищались второй частью Обломова, удивлялись тому, как могла решиться Ольга выйти за Штольца, всем им жалко было Обломова и досадно на Ольгу за то, что она «не продолжала своей трудной работы над пересозданием этого истого произрастания захолустной российской почвы». Но четвертой части Обломова, с изображением того недовольства жизнью, которое высказывает Ольга своему мужу, они решительно признать не могли. Полевой говорил: «Чего ей еще нужно? У неё есть муж, любимый и уважаемый ею, есть дети, есть обеспеченное состояние, которое дает ей возможность сосредоточить все заботы на муже и детях? Чего же ей еще нужно и отчего она скучает?..» На все эти недоумения, шедшие из неглубокого умственного источника, Писарев отвечал почти теми-же словами, какими он выразил свою мысль в напечатанной им статье об Обломове: «В её недовольстве, говорил он, можно подозревать стремление к творчеству», и это истолкование, как передает Полевой, имело громадный успех в обществе и вызвало даже сочувственный отзыв самого Гончарова.







