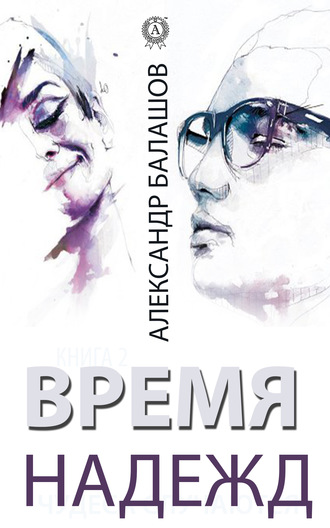
Александр Балашов
Время надежд
Глава 4
ХОЗЯЙСТВО ВЕСТИ – НЕ БОРОДОЙ ТРЯСТИ
География моей биографии весьма замысловатая. Тут, как говорил мой батя, без бутылки ни один биограф не разберётся.
Родился я в славном русском городе Смоленске, куда в год и месяц моего рождения перебросили часть, в которой тогда служил отец. По маминым воспоминаниям, прожил я в городе русской воинской славы, ещё только-только приходящем в себя после жуткой войны с немцами, всего три месяца. То бессознательное младенческое время я опущу в своём повествовании, так как оно не отложилось в моей памяти по возрастным причинам.
Помнить и осознавать себя личностью я начал с тех ранних детских лет, когда меня родители отвезли в курскую деревню Андросово, откуда сами были родом, к моим бабушкам и дедушкам. Многодетные родители отца моего, мои прародители то есть – бабушка Наташа и дедушка Вася – жили по меркам начала пятидесятых годов прошлого века, весьма средне. Хотя известно, что всё познаётся в сравнении. Если сравнивать с деревенской «босотой», то не «средне», а даже справно. У них была корова, чёрно-белая, высокоудойная, пригнанная в виде репарации от нацистской Германии, как и всё тогдашнее андросовское стадо. Немцы в войну, понимал я, убили и сожрали русских коров, и за своё злодейство отдали андросовцам своих чёрно-белых бурёнок. Всё по справедливости.
На огороде бабушки Наташи вперемешку с кустами смородины росли яблони – знаменитая на всю Россию курская антоновка и три раскидистых дерева, на которых в конце августа, в урожайный год, висели тяжёлые, ещё твердоватые краснобокие яблоки. Бабушка Наташа зелёные яблоки называла «антоновскими», а красные – «штрихфилью».
Яблоневые сады были у многих андросовцев, а вот синего патефона с набором пластинок, на которых бала записана вся любимая музыка моего, как бы сегодня сказали, «продвинутого деда» – от классики до мордасовских частушек про то, как «зашумели, заиграли провода», – во всей деревне не было ни у кого.
Этот патефон должны помнить и мои дорогие двоюродные братья Женя и Валера, хотя и были тогда совсем малютками. (Женя стал маркшейдером, проработав на Михайловском горно-обогатительном комбинате до пенсии, а потом, на заслуженном отдыхе, снова переехал в родное село. Теперь уже село умирающее, по-стариковски кряхтящее под натиском многотонного вскрышного отвала железорудного карьера. Валера, по совету моего бати, выучился в Ленинграде на подводника. Служил в ВМФ, ходил со своей субмариной в «автономку»). И красивая тихая девочка Валя, моя младшая двоюродная сестрёнка, ставшая впоследствии педагогом, знаю, тоже помнит тот дедушкин патефон. (Валя живёт в Железногорске, до пенсии работала руководителем детского сада).
А уж мне и подавно не забыть его. С него ведь, я точно знаю, и началась моя любовь к музыке.
Патефон дедушки Васи… Это не просто синий ящик с ручкой, которой заводят пружину. Это целая эпоха. Яркая, хоть и неизвестная нынешней молодёжи, примета своего времени.
Дед мой, Василий Петрович, был человеком серьёзным, с репутацией «справного хозяина». Был он абсолютным трезвенником, матом не ругался, власть колхоза «Восход» и правительство страны тоже не ругал, налоги аккуратно платил за каждую яблоньку в своём старом саду. Нетипичный, прямо скажу, для советской деревне был дед-трезвенник, где чуть ли не в каждом дворе, несмотря на милицейские рейды-набеги и строгие законы селяне гнали самогон из свёклы – сахар был не по карману. Кто-то считал его старовером, а кто-то записал в сектанты. Но в белых воронах села Андросово дед не значился. Односельчане все вышеперечисленные, по их мнению, странности прощали деду за высокое его плотницкое мастерство – у многих андросовцев дома стояла мебель, сделанная золотыми руками Василия Петровича: от столов с тумбочками до платяных шкафов с зеркалом на дверце.
Одна слабость у деда всё-таки была – любил он по вечерам слушать свой патефон. Делал Василий Петрович это тайно, будто стеснялся своего увлечения музыкой. Пьянство, прелюбодейство, богохульство, рукоприкладство, сутяжничество и доносительство – эти грехи односельчане и власти прощали с лёгкостью. А вот «роман с патефоном» могли бы поставить в укор благообразному старику. Даже мне казалось, что легкомысленный патефон как-то не шёл человеку с густой бородой, внешне похожему на священника. Даже сам настоятель Андросовской церкви Казанской Божией Матери, пока её не закрыли при Хрущёве, по моему убеждению, был меньше похож на попов, какими их рисовали в детских книжках, чем дедушка Вася со своей окладистой бородой.
Потому и слушал пластинки дед тайно, когда в доме никого не было. Как-то я застал деда, склонившегося над своим музыкальным ящиком. Он слушал Шаляпина, и борода его тряслась, чуть касаясь крутившейся пластинки. «Дед!» – окликнул его я. Он вздрогнул и обернулся. В глазах деда Васи стояли слёзы. Это были слёзы любви. Святые слёзы его тайной страсти к настоящей музыке. Так отзываться на песню в завораживающем шаляпинском исполнении могла только истинно русская душа, глубоко чувствующая каждое песенное слово, каждую ноту мелодичного рисунка.
Я гордился дедушкиным патефоном. И слушая его, каждый раз воображал себя тем, чей голос звучал с пластинки. Только патефон, а не корова Милка, дававшая по ведру молока за одну дойку, казался мне настоящим богатством нового дедушкиного дома. Дом этот он со своим зятем, дядей Серёжей, отцом моих двоюродных Жени и Вали, был поставлен вместо старой хаты. Старый дом сгорел в войну, когда наши солдаты выбивали из деревни немецких оккупантов.
Мало кто из его односельчан знал военную историю Василия Петровича. Даже своим близким людям он не рассказывал о своей военной службе. А ведь он, будучи уже далеко не молодым человеком, – то ли призвали в армию после освобождения Михайловского района, то ли сам напросился, – в артиллерийской батарее был приставлен к лошадям. Отвечал, так сказать, за «тягловую команду». Пришёл он с войны с медалью – «За боевые заслуги», но никогда и никому про эти свои заслуги не рассказывал. На все мои упорные просьбы, отнекивался: «Да какие там заслуги могут быть на войне? Лошадей и людей жалко было…».
Бабушка говорила про неугомонный дедов характер. Мол, пришёл с незажившей ещё раной на ноге и сразу за топор, пилу и рубанок – дом новый ставить. И через год семья из землянки-погреба перебралась в новый дом, пахнувший деревом и надеждами на мирное счастье. Тётки мои, родные сёстры отца, в письмах своих писали брату, отцу моему, оставленному в армии кадровым офицером, про то, как они все рады долгожданному новоселью. Приезжай, дорогой братик Митя – порадуешься вместе с нами. А братик Митя, пройдя всю войну, начиная с сорок первого и заканчивая победным годом, всё колесил со своей частью по необъятной стране. И не было у него, выходит, и недели для передыха в отчем доме – служба была такая, «сурьёзная», как её определяла бабушка. Но знаю, что он и за тысячу вёрст от андросовского дома радовался тому возрождению.
Чего не скажешь про некоторых соседей, которых я запомнил, когда родители, так и не заимев в начале 50-х годов своего жилья в гарнизонах, отвезли меня жить к своим родителям, моим, значит, прародителям – адросовским и мартовским дедушкам и бабушкам. Далеко не все соседи разделяли радость новоселья большой семьи.
Лесник Кузьмичёв, считавший, что дед за выписанный в правлении строительный лес ему чуть ли не жизнью обязан, очень ревностно относился к справному хозяйству Василия Петровича. Как же так? И дом новый «под железо» поставил и прибавил к своим «богатствам» ещё и животину разную – корову, стадо серых гусей, взвод уток, батальон кур да ещё и «поющий ящик», патефон с пластинками!.. Не по чину колхозного плотника, считал Кузьмичёв. И завистливый лесник, как человек, проводящий линию партии в жизнь, без устали строчил доносы на Василия Петровича, обвиняя его в «незаконной порубке государственного леса и активном участии в баптистской секте».
Особую ненависть соседа почему-то вызывал именно дедушкин патефон, переполняя душу бывшего борца с кулачеством, праведным партийным негодованием. А ведь дедушка на праздники выставлял «поющий ящик» на крыльцо дома, волею судьбы поставленного прямо напротив колхозного клуба, чтобы деревенская молодёжь культурно гуляла под граммофонную музыку, а не только под гармошку не всегда трезвого гармониста. Однако не помогала и культурно-просветительская дедова программа – соседи, глядя на растущее благосостояние колхозного плотника, тайно и явно желали, чтобы удойная корова окривела, а ещё лучше бы – вовсе сдохла. А у патефона бы лопнула бы пружина, и чтобы он век больше не играл свою музыку в новой хате «под железо». И хотя дедушка в ответ на косые взгляды и несправедливые слова говорил, что железо ржа съедает, а завистливый от зависти сохнет, я что-то не замечал, чтобы мордатый лесник хотя бы малость похудел от чёрной зависти своей.
Но мне, малолетке, привезённому родителями в Андросово из Дорогобужа (там тогда служил батя), было до завистливого лесника, как тогда говорили, до лампочки. С ним у меня не было никаких дел – ни личных, ни общественных. Как только я научился крутить патефонную ручку, которая заводила пружину, спрятанную в синем заветном ящике, патефон стал, можно сказать, первым моим другом, отцом с матерью, дядькой-воспитателем одновременно. Я без устали заводил патефон и слушал всё полное собрание дедовой фонотеки, начиная от классики, заканчивая популярной народной музыкой. Пластинок было дюжины две. Крутил я их не по одному разу. Потому со временем все песни, записанные на граммофонных пластинках, я знал наизусть и с патефонной точностью воспроизводил большие фрагменты из полного собрания музыкальных произведений.
Глава 5
ХОТЯ БЛИН И НЕ ПОДМАЗАН…
Недалече от андросовких стариков, на Мартовском посёлке, жили другие мои прародители, по матушкиной линии – бабушка Прасковья и дед Паша. Многодетная семья Земляковых, по всем меркам, была бедняцкой.
– Нас копеечка не любит, – вздыхала бабушка Прасковья. – Гладишь – вот она, долгожданная, катится, катится… Пальцы растопыришь, шоб споймать, а она – мимо, напрямки в соседскую хату, мимо нашей… И чем привадить её, ума не приложу.
Прасковья и Павел прозябали в маленькой, белёной мелом хатке. В маленьком доме Земляковых был земляной пол (да простится мне эта невольная тавтология!). Крыша – ржаная солома, уложенная не хитрым, но надёжным способом. (Как у одного, самого непутёвого, из трёх сказочных поросят). Бабушка Прасковья и дед Паша «выпустили в люди», как выражался дед Паша, «четырёх девок и двух мужичков». Один из них не вернулся с войны, а Владимир Земляков, мой родной дядька, вернулся героем – «весь в крестах и голова не в кустах», как шутил дедушка Паша.
Владели многодетные Земляковы немногим – огородом, старым покосившемся амбаром, погребом и дровяным сарайчиком с протекающей крышей. Вместо вырубленного в оккупационную зиму итальянскими солдатами яблоневого сада – старая ракита с едва заметными следами автоматной очереди, которую зачем-то дал по дереву пьяный итальянец.
О том, как после боёв в чудо сохранившейся хате квартировали итальянские солдаты, как она овечьими ножницами наголо обстригла свою младшую дочь Веру, мою будущую маму, и вымазала её лицо сажей, чтобы уберечь от похотливых итальяшек, вместо сказок рассказала мне бабушка Прасковья. (Мастерицей рассказывать сказки про Горыныча, Бабу Ягу и других народных персонажей была моя андросовская бабушка – Наташа).
Уже тогда нехитрые истории про колобка и курочку Рябу не отзывались сочувствием в моём детском сердце, а быстро взрослевшая душа уже жаждала жизненного реализма. Я и мои деревенские ровесники родились через три года после той страшной войны. Страшные её метки ещё оставались повсюду. Помню, как после бабушкиного рассказа я побежал к раките, долго разыскивал раны от пуль на теле старого дерева. К тому времени они уже почти затянулись, но, приглядевшись, шрамы на стволе всё-таки ещё можно было разглядеть.
Та ракита моего деревенского детства, как верный маяк в неспокойном море, всегда точно выводила меня на дом деда Паши и бабушки Прасковьи. Вросшую в землю старую хатёнку вообще не было видно с околицы, на которую выходил Андросовский большак. А ракиту было видно версты за три, а то и четыре – с бугра у Маруськиного лога.
Нечем мне было в хозяйстве стариков Земляковых похвалиться перед мартовскими пацанами, которые, приняв меня в свою команду, всё-таки считали чужаком. Я это хорошо чувствовал и потому тянулся к любви и пониманию со стороны родных стариков. И ответную любовь с мудрым пониманием жизни, немногих её радостей и многих страданий, я находил у своих андросовских и мартовских прародителей. Мудрость – это ведь жизненный опыт, помноженный на совесть.
Почему я так и не стал своим для деревенских мальчишек – для меня и сегодня не очень-то понятно. Ведь родители привезли меня на Курщину, на свою родину, ещё в бессознательном младенческом возрасте, но ни взрослые селяне, ни мои сверстники за «своего», «коренного», «деревенского» меня не «держали». Видно, место рождения – а родился я таки в городе Смоленске – впечатывается не только в свидетельстве о рождении, а в известной степени и в судьбу. Недаром же экстрасенсы всегда спрашивают у своих клиентов место их появления на свет Божий.
Но, несмотря на некоторые внешние отличия в одежде (между городским и деревенским), в Андросово, где стоял дом Василия Петровича, и на Мартовским посёлке, коренное сельское население знало меня хорошо. За неделю я раз по пять ходил от одних стариков к другим, из Андросово на Мартовский посёлок и обратно.
Бабка Матрёна, овдовевшая ещё в Финскую войну, жила в пустой кособокой хате у пруда, где свои косы полоскали в воде плакучие ивы. Там же, над запрудой, вилась тропка, ведущая к дому деда Паши. Встречая меня на пути, Матрёна, похожая на бабу Ягу из детской книги, укоризненно качала трясущейся лохматой головой:
– И чаво табе у бабки Натахи не сидится? Тама хлебное место, блины масляны…
– У бабушки Параши, – отвечал я Матрёне, – тоже блины.
– Так они же не подмазаны! – возражала мне вредная бабка.
– А чем блин должен быть подмазан?
– Маслом, знамо… Как у бабки Натахи. А у Парашки блин ржаной и не подмазанный.
Я на минуту задумывался над ответом, а потом врал Матрёне:
– А я ржаные тоже люблю.
Упорная старуха не сдавалась:
– Ржаной – ни себе, ни людям, да на другом блюде. Лучше ешь наташкины калачи да много не лопочи.
– Язык, Матрёна, без костей, что хочет, то и лопочет, – вспомнил я присловье деда Паши.
– Ишь ты, поди ж ты! – всплескивала руками бабка. – Городской, грамотной… Ты гусаку мому поперечь. Он тебя быстро угомонит.
Гусак у Матрёны был такой же вредный, как и его хозяйка. По весне, когда жёлтые комочки с гусыней выкатывались из бабкиной хаты, где с конца марта Матрёна устраивала гусыням гнёзда для выводка молодняка, на первую зелёную травку, крупный серый гусь, прозванный бабкой за непомерный аппетит Жорой, превращался в лютого агрессора. Пройти мимо него было и делом мужской чести – стыдно бояться глупую птицу и давать от него дёру, думал я, опасливо посматривая в сторону зелёной поляны, где жёлтые комочки-гусята и гусыни-мамаши бабки Матрёны, кто попискивая, а кто покрякивая, дружно ковырялись в молодой травяной поросли. Жора, не отказывая себе в трапезе, зорко наблюдал за обстановкой вокруг своего гарема. Я подбирал с земли прут покрепче, замедлял шаг, чтобы не дать врагу повода усомниться в моей смелости, и, обходя поляну по краю плетня, который обозначал Матрёнины угодья, шёл к дому Земляковых.
Жора переставал жрать, вытягивал шею по направлению ко мне и, шипя, делал резкие короткие броски.
– Уйди, Жорка, по-хорошему! – кричал я ему, рассекая хворостиной воздух. – Мне твоя семья ни к чему! Не бось, не обижу… Я к своему деду Паше иду. Знаешь такого? Во-во, хата у трёх ракит стоит. Во-о-на она. И хватит на меня шипеть, как на врага народа! Свой я, Жора, свой… Чуешь, товарищ часовой?
Жора делал ещё одну-две попытки ущипнуть меня за икры или хотя бы лодыжки, но я, наверное, уже заговорил, загипнотизировал пернатого бойца своими словесным ручейком. Жора, победно гоготнув для приличия, отставал от меня и, хлопая крыльями, возвращался к своему стаду, всё ещё поглядывая круглым глазом в мою сторону. Мол, ладно, так и быть – нынче пропущу тебя, оглоеда, но в другой раз защиплю до синяков, коль опять нарушишь покой моего святого семейства. Ишь, ходят тут всякие, а потом гусята куда-то пропадают…
Честно говоря, я и сам не знал, что меня тянуло в убогую хатёнку Земляковых. Не погрешу против истины, если скажу, что влекла меня туда какая-то неведомая и неодолимая сила. Бедностью гордиться негоже, понимал я уже в том возрасте. Но и стыдиться ею я тогда не стыдился. (У нас всегда так: кому рай, а кому – ложись и помирай. Сегодня это присловье, пожалуй, покруче звучит, чем в моём детстве).
Да, нечем было хвалиться Павлу Фёдоровичу и Прасковье Ивановне, если говорить о чём-то таком, что их односельчане считали бы богатством. Дед Паша хорохорился, шутил:
– В одном кармане – вошь на аркане, в другом – блоха на цепи.
– Бедность не порок, – вздыхала бабушка Прасковья, – но зимой без шубы холодно.
Павла Фёдоровича, в молодости служившего в драгунском полку, трудно было вывести из себя. Он, скручивая из самосада папироску, лишь улыбался в усы:
– Шуба у нашей Любы, а меня и пиджак греет.
Бабушка заводилась с пол оборота:
– Аль я виновата, што рубаха дыровата?
Дед и на это отвечал с неизменной поуулыбкой на морщинистом лице:
– Была бы, Парашка, спина, найдётся и вина.
Глава 6
НЕ ОСУЖДАЙ МЕНЯ, ПРАСКОВЬЯ!.
И всё-таки было, чем гордиться и моим мартовским старикам. Гордость бабушки Прасковьи был её огород. Большой приусадебный участок, составленный из двух земельных «нарезов» (соседский дом сгорел в войну, а земля-то не горит), был бабушкиной вотчиной, её суверенной территорией. Тут её рука была владыкой. Тут она полноправно хозяйничала, ухаживая, поливая водицей и п0том своим огурцы, помидоры, тыкву, капусту, «буряки», баклажаны, окучивала картошку. Чего только тут не росло на чудесном бабушкином огороде!.. Что она сажала, то и росло на жирном курском чернозёме. Без химии и парников под стеклом или плёнкой на Прасковьином огороде всё росло, цвело и плодоносило. Земля такая, щедрая, коль заботится о ней. Палку по осени воткни в неё, родимую – весной зацветёт та палка. И это не фигура речи. Боже упаси меня гиперболизировать свои воспоминания. Сам проверял – расцветает по весне воткнутая в нашу благодатную землю свежесрезанная палка.
– Трава и твой городской асфальт дыбит, – говорила Прасковья. – Живое завсегда сильнее мертвечины.
А ещё на огороде, который кормил стариков и бабушкину козу, в угрюмом одиночестве стоял пустой пчелиный улей, «улик», как его называла моя бабуля. Чтобы я не гулял по огороду и не топтал бабушкину рассаду, она придумала для меня «страшилку».
– Улик тот не пустой, внучик, – кивая на пчелиный домик, притушив голос, говорила бабушка Прасковья. – В нём Пулётя живёть…
Заразившись бабушкиным настроением, я, сделав круглые глаза, шептал в ответ:
– А кто такой – Пулётя?
– У-у!.. – прикладывала палец к губам-ниточкам бабушка. – Карлик-уродец, который страсть как не любит маленьких неслухов.
– А кто такие неслухи?
– Это, хто бабушек своих не слухает.
– А я слушаюсь?
– Ты на огород – ни ногой! Слышь, неслух?
– Слышу.
– Смотри мне, а то Пулётя схватит!
Дня два я терпел – не выходил на огород. Издали, через плетень, я изучал улик, гадая: а как же он туда залезает, этот злой карлик Пулётя? Не через щелку же внизу! На третий не выдержал, вышел в огород и с песней «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» (чтобы страшно не было), поднапрягшись, сдвинул крышу с домика злобного карлика. Крышка с грохотом упала к моим ногам, задев щиколотку. От боли и страха я закрыл глаза. Потом открыл – в домике никого не было.
– Нет там никакого Пулёти! – с этим криком я побежал к старикам, занимавшимся в амбаре каким-то хозяйственным делом. – Нет там Пулёти!
В своих ручонках я сжимал гнилую доску, отвалившуюся от крыши пчелиного домика. Бабушка с укоризной смотрела на меня, потом перевела взгляд на кусок доски. А потом посмотрела на мои ботинки, густо измазанные огородной землёй. Я понял, что трёпки не избежать и тогда, прочистив горло, неожиданно для неё запел, что слышал у деда Васи на пластинке:
– Не осуждай меня, Прасковья,
Что я к тебе пришёл такой…
Бабушка всплеснула руками:
– Он ишшо и насмехается, чертёнок! А грязён-то, грязён!.. Гляньте на него – рукав порвал. И вить не спужался Пулёти – сломил-таки улик, неслух!..
– Нету никакого Пулёти, баушка!
– А как он вернётся в свой домик, а домик сломлен?
– А как он вернётся, ежели его нету в жизни? Пустой улик был! Своими глазами видал, что бы мне пусто было!
Дед Паша, слюнявя газетку самокрутки, рассмеялся:
– Смелому солдатику сама судьба помогает. Ты его, Парашка, не ругай. Тут радоваться нужно…
– Чаму радоваться-то? Што огород малый вытоптал? Третий раз баклажаны пересаживаю!
– Радоваться нужно, что у человека камень страха с души свалился… А судьбу пытает, чтоб страх свой перебороть.
Прасковья Ивановна покачала головой, потянула за концы тёмного платка, который она не снимала с седой головы ни при какой погоде.
– Сдаётся мне, дед, того малый… – Бабушка покрутила у виска пальцем. – Поёть, а не балакаить: не осуждай меня, Прасковья… К чаму бы это, дед, а? Уж не хворый малый-то?
Павел Фёдорович неопределённо хмыкнул, глядя на меня весёлыми глазами:
– «К чаму! Да ни к чаму», – передразнил бабушку дед. – Понимать, Параша, нужно: человек от страхов избавляется… Разорил брошенный улик, значит, наступив своему страху на горло…
– А петь-то чаво?
– Для смелости. Боялся, накажешь за разорённый улик. Вот и запел. На поющего рука у кого подымется? – засмеялся Павел Фёдорович.
Бабушка перебила смеющегося деда:
– То ж мне, заступник!.. Вам смешки, а мне – слёзы. Вытопчет огород – зубы на полку можешь класть зимою.
Голос её дрогнул, она даже коротко всхлипнула, но быстро справилась с собой. А, справившись, уже миролюбиво продолжила:
– Ладно, старый и малый!.. Идите-ка лучше курам корма задайте. Да яйца по гнёздам соберите на завтрик. Мне ишшо Марту подоить надобно.
Говорят, что бедности (для баланса Господа Бога) в утешение дана мудрость. Спорное утверждение. А вот что нужда заставит и мышей ловить – это в точку. Мокрый человек, он ведь дождя не боится.
Дед, воевавший с немцами ещё в Первую мировую в составе драгунского полка, запечатлённый житомирским фотографом на пожелтевшую картонную карточку с шашкой на боку, в форме драгунского унтер-офицера, не любил возиться с домашней животиной, но нужда заставляла. Радости от домашних забот он не испытывал, но от «службы» не отказывался. Любил выпить. Когда хмелел, пел свою любимую, заунывную: «Не для меня придёт весна, не для меня Дон разольётся…». Бабушка вздыхала, а иногда и роняла слезу под эти пронзительные слова.
У бабушки Параши и деда Паши в их небогатом хозяйстве, кроме козы Марты, само собой, были и куры. И красный петух, не боявшийся ни собак, ни дедушкиной хворостины. Он гордо водил за собой свой небольшой, но дружный гарем, без устали разгребал навозные кучи в поисках пропитания себя и своих жён.
Пожалуй, Прасковья Ивановна могла бы гордиться не только огородом, но и своими курами. А как же без кур на Курщине? Без кур в Курской области деревенская жизнь немыслима. Река Кура, деревня со смешным названием Курица, город Курск – все эти названия с единым корнем «кур». Так что курица в этих благословенных краях, можно сказать, не только птица, но и всему голова.
Стоп! Совсем забыл про козу… У бабушки Наташи была корова немецкой породы с русским именем Милка. А у бабушки Параши – русская коза с немецким именем Марта.
Я не любил «продукцию» от козы Марты, но бабушка молча, без уговоров, каждое утро наливала мне большую эмалированную кружку козьего молока из глиняного кувшина, который она называла «кубан». Когда молоко уже не лезло в горло, я не капризничал, я пел, что для бабушки Параши было страшнее сказок о конце света. Зная, как бабуля реагирует на мои «арии», я понимал – возражений не будет. У дедушки Вася была одна старая граммофонная пластинка, на которой густой баритон в сердцах просил кого-то:
– О-о, дайте, дайте мне свобо-о-ду!
Я свой позор сумею искупи-и-ть!..
И я, как попугай, повторял эти слова своим детским голоском. Бабушка прекрасно понимала, что таким странным образом я прошусь к другим своим прародителям – деду Васи и бабушке Наташе. К моим андросовским родственникам она ревновала молча, но яростно. Это я видел по её глазам. И, погудев «для порядку», отпускала меня в обратную путь-дорогу. Но не забывала съязвить:
– Это ты у деда Васи навучился песенки заместо слов человеческих? Погоди, в Андросово тя и не тому эти куркули навучат…
– Это патефон меня научил.
– Тьфу ты! – сплёвывала бабушка и крестилась. – Вот я и грю: ихний пахтефон ничему хорошему не навучит…Василию Петровичу, сдаётся мне, деньги шальные, донбасские, девать некуда – на баловство всякое их изводит.
Я, еле сдерживая слёзы обиды, горой вставал за андросовских стариков, не понимая, что бабушка Прасковья не со зла это «сморозила». От любви так сказала. Точнее от побочного эффекта этого великого человеческого чувства – от ревности к моим адросовским прародителям, которые любили меня нисколько не меньше мартовских.







