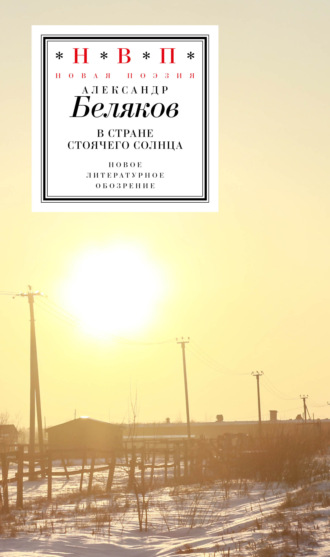
Александр Беляков
В стране стоячего солнца
Новая поэзия
Александр Беляков
В СТРАНЕ СТОЯЧЕГО СОЛНЦА
Стихотворения 2019—2023 годов
Новое литературное обозрение
Москва
2024
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Б44
Предисловие Д. Давыдова
Александр Беляков
В стране стоячего солнца: стихотворения 2019—2023 годов / Александр Беляков. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Новая поэзия»).
Новую книгу Александра Белякова составили стихотворения, написанные с 2019‐го по 2023 год. В них особенно заметны «иероглифическая», предельно строгая компактная форма и стоицизм автора, отзывающегося на сегодняшние катастрофические события. Бесприютные осколки слов, макабрические образы, обманчиво веселое стрекотанье ритмов, каламбурная рифмовка – таков моментальный снимок трагического опыта, сделанный точнейшими поэтическими средствами. Александр Беляков родился в 1962 году в Ярославле. Окончил математический факультет Ярославского госуниверситета (1984). Был программистом, журналистом, сотрудником издательства, книготорговцем, бухгалтером, редактором на радио и телевидении, чиновником, PR-менеджером, копирайтером. Печатается с 1988 года. Автор 10 книг стихов и книги малой прозы «Возвышение вещей» (2018), многочисленных публикаций в литературных журналах и поэтических антологиях. Стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского (2012).
На обложке: © Picture by Sergey Sidorov on iStock
ISBN 978-5-4448-2397-2
© А. Беляков, 2024
© Д. Давыдов, предисловие, 2024
© Е. Белякова, фото, 2024
© И. Дик, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024

Сразу наповал
Стихи Александра Белякова обманчивы (подразумевается: неодноуровневы). Их просодическая привычность (общее ощущение которой не отменяется и выходами поэта за пределы силлабо-тоники), их лаконизм могут включить механизмы чтения «просто лирики», некоего стертого текстуального явления, заранее подразумевающего определенный (небогатый) набор реакций. Такого рода категориальные обманки, притом не увязанные с теоретическим аппаратом концептуалистской и постконцептуалистской рефлексии, являются верным признаком виртуозной авторской работы, которая встречается совсем не часто (вспоминаются, к примеру, Виталий Пуханов и Алексей Александров, совершенно иначе, впрочем, взламывающие автоматизм лирической инерции).
Возможно, именно оттого в отзывах на стихи Белякова порой чувствуется некоторая растерянность. Так, Владимир Губайловский отмечает: «В стихах нет ни недоговоренности и открытости, ни даже малой возможности сокращения и сжатия текста. А это значит, что нет свободных связей, которые могут быть открыты вовне. Каждое стихотворение в книге – одиноко. Стихи почти не связаны друг с другом. Они не поддерживают друг друга. Это книга одиноких сущностей»1; или же Валерий Шубинский, сравнивая стихи Белякова с ранним творчеством Михаила Айзенберга, тут же оговаривается: «Главная цель Айзенберга – сказать хоть что-то, когда речь невозможна… Белякову как будто ничего не мешает говорить – он сам этого не желает, точнее, хочет не сказать, от полуправды слов уходит в засловье, а там ищет не формул, а сбоя, „небольшой погрешности“ в обэриутском смысле, позволяющей не удержаться на плаву, а по-настоящему почувствовать себя утопающим»2.
Между тем сквозь эту растерянность проступают принципиальные, на мой взгляд, свойства поэтики Белякова, его способа обращения с языком, текстом, взаимодействия субъекта в этих текстах с окружающим миром. Процитирую еще один отзыв на его стихи, принадлежащий тому же Айзенбергу: «…эксперимент проводится в атмосфере, к дыханию как будто и непригодной. Вещи Белякова – кристаллические конструкты такого невозможного дыхания: как бы спекшиеся словесные образчики, привезенные с Луны или Марса… Никакой зыбкости, даже самые мягкие ткани стиха готовы к твердой обработке. Ужас обыденности, захваченный не описанием, а измененным языком»3. Айзенберг говорит о стихах Белякова как об артефактах, оставшихся после столкновения речи с неким нечеловеческим началом. Это начало явственно неопределимо, оно ощущается как композитное соединение разноприродных сущностей, которые, однако, по определению вне-(до-)словесны.
По Айзенбергу, «…поэтическое сознание должно осуществлять себя одновременно и в языке, и в каких-то доязыковых актах, доречевых состояниях. Стихи становятся реальностью только в превосходной степени: только превосходя наличные языковые возможности. Они и употребительны лишь в том смысле, что создаются на потребу определенному моменту речевого становления. Это движение к языку в обход языка существующего. Иначе говоря, поэтическое произведение пишется одновременно на двух языках, и его второй – основной – язык особо замечателен тем, что пока не существует»4. Поэтология Айзенберга противостоит и передаче полномочий от стихотворца самому языку, которую постулирует Бродский, и авангардистскому взлому языка. Но как с этим на самом деле соотносится практика Александра Белякова?
Взаимоотношения субъекта в этих стихах со словесной стихией разнообразны и драматичны: «когда январь приходит как хозяин / комиссовать служилый лексикон / бредут слова бездомные с окраин / снегам вдогон // пустых затей оборванные нити / юродства позолоченный запас / мы нужные твердят / вы нас примите / нельзя без нас // стекаются как запасная память / смыкаются как преломлённый свет / из них попутной песни не составить / дай бог куплет». Слова не столько проступают из дословесного (как это предполагается у Айзенберга), сколько собираются отовсюду, в буквальном смысле сползаются их всех уголков («бредут слова бездомные с окраин»), со всех семантических полей; они агентны, но это агентность маргиналов, бродяг, бездомных, попрошаек.
(Трудно удержаться, чтобы не сопоставить это с авторским сообщением Белякова о методе собственного письма: «Какие-то фразы, созвучия, строки – чаще поодиночке, реже попарно – возникают в голове ежедневно и не по одному разу. Я бы сказал, с физиологической регулярностью… Такие обрывки сообщений себе самому, сигналы внутреннего человека. Все эти непроизвольные мозговые отправления исправно заносятся в блокнот… Спустя дни критически пересматриваю скопившийся ментальный мусор, ищу в нём если не жемчужные, то просто зёрна… Собранные вместе, бок о бок, на одной или нескольких страницах, эти осколки, зёрна, зародыши создают энергетическое поле, в котором и возникает стихотворение… осколки нередко начинают притягиваться. Некоторые строки ждут своих партнёров не по одному месяцу, а некоторые – по году и больше. Иногда они находят друг друга в тетрадях разных времён. Меня такие встречи очень трогают»5.)
Словам, которые явились таким образом, в полной мере доверять нельзя: «отойдёшь ко сну / а во сне сова / говорящую мышку ест / поскребёшь белизну / а под ней слова / несмываемый палимпсест // научи меня голован-сарай / этой грамотой или той / из окраин дня выкраивать рай / чтоб сидел на мне как влитой». Сова пожирает говорящую, то есть доверившуюся языку мышку; будь это сова Минервы или же просто хищник, функция беспощадного случая, в любом случае тем самым она утверждает неизбывный принцип «Молчи, скрывайся и таи», осуществить который на практике непросто: даже за кажущемся нулем информации, «белизной», скрываются словесные залежи, причем переработанные культурой, складывающиеся в «палимпсест». «Голован-сарай», изначально рожденный каламбурной стихией, предстает носителем «как бы» бесполезного опыта (и «сарай» здесь, конечно, стоит понимать не в высоком древнем значении, а в современном сниженном, как некий аналог того мозга-чердака, куда, по выражению Шерлока Холмса, дурак «тащит нужное и ненужное»). Этот «опыт дурака», наполненный всяким семиотическим барахлом, способен научить, однако, выискивать нечто подлинное, истинное («рай»), соответствующее самоощущению субъекта («чтоб сидел на мне как влитой») на «окраинах», в маргинальных зонах реальности (и не важно, с помощью какой именно «грамоты», то есть дискурсивной практики). Перед нами манифест недоверия к словам и доверия к необязательному, «окраинному» опыту.
Это – возможная точка расхождения с упомянутой уже магистральной для русскоязычной поэзии линией языковой критики, концептуалистской. Для Белякова мир не сводится к дискурсивным стратегиям: недоверие к речи не означает для него отказа ни от нее, ни от сопутствующих явлений, таких как субъектность говорения или семантичность.
Соединение «осколков» не порождает у Белякова поэтической алеаторики, разноприродные «бродячие» элементы складываются воедино с изящной естественностью. Мимикрия под «просто лирику», о которой говорилось выше, усиливается компактностью, лаконизмом практически всех текстов Белякова. Компактность эта не минималистична, здесь нет разреженности, все «будто бы случайные» элементы подогнаны очень плотно и каждый текст достигает максимальной концентрации (у Белякова на этот случай есть и автометаописание: «чем выше горы шелухи / тем ближе и родней / однозарядные стихи / второразрядных дней // они хронический приказ / карающий кимвал / не истязают всякий раз / а сразу наповал»).
«Идеальным» беляковским текстом является восьмистишие, которое, как мне неоднократно приходилось писать, в новой и новейшей лирике становится практически твердой формой, редуцированным вариантом сонета (в котором одно четверостишие – тезис, второе – антитезис, тогда как синтез не выделен в финальные терцеты, а образуется соотнесением двух строф, смыслопорождающим напряжением, которое возникает между ними): «на сумрачной поляночке / как человек-койот / полярник в биполярочке / то лает то поёт // скрипит пенёк терпения / под натиском зимы / и лай честнее пения / и свет темнее тьмы». Но, конечно, «идеальный» в данном случае означает модельный: и меньшие по объему тексты («россию захватили марсиане / на марсе появились россияне / рассвет багрянцем осиян / туземец просыпается как демон / он сам не понимает где он / и всюду видит марсиан»; нет ли тут, кстати, оммажа, к тому же структурно подобного, Григорию Дашевскому с его знаменитым стихотворением «Марсиане в застенках Генштаба…»?), и бóльшие подчиняются общим принципам.
Сам Беляков говорит о своих текстах как о «иероглифах» («Мои стихотворения почти всегда кончаются быстро. Я представляю каждое из них как иероглиф. А иероглиф экономен. Не умею писать длинное»6). Не думаю, что здесь имеет смысл говорить об «иероглифах» в понимании Леонида Липавского и Якова Дркускина; скорее, здесь иероглиф должен пониматься более традиционным способом, как компактный и одновременно композитный знак, в котором ощутима иконическая природа. Важно и то, что иероглиф может быть расшифрован, прослежен до своего иконического генезиса. Стихотворение-иероглиф не обязано быть распространенной метафорой или метаболой (и здесь – расхождение Беляков с еще одной важнейшей линией новейшей поэзии), но это и не обязательно зашифрованное, энигматическое высказывание, притворяющееся герметичным, подобно текстам Михаила Ерёмина, с которыми стихи Белякова иногда возникает соблазн сравнить (чтобы немедленно, впрочем, различить). В стихах-«иероглифах» Белякова важна объединяющая фигура затекстового «я», которое подвергает сомнению свой материал, однако не отбрасывает его, а позволяет стать частью построенной вне всяких правил, но в конечном счете устойчивой конструкции.
В свою очередь, это «я» подвергает сомнению и самое себя. Такого рода самоанализ-самоумаление становится особенно заметным в самых новых стихотворениях Белякова, в которых отзывается сегодняшний катастрофический опыт: «всё что говорится / ни к чёрту не годится / всё о чём молчится / за каждым волочится / измятой и нервной / жестянкой консервной / в звуках этой жести / истинные вести». Отчасти утопическое доверие к фрагментам и осколкам оборачивается своей трагической стороной, предстает в макабрических образах (может быть, перекликающихся даже с блокадными стихами Геннадия Гора»): «что за обрубки тут / мимо тебя плывут? // это не труп врага – / порознь рука нога / тулово голова / адские острова // ровно в такой же ряд / всякий напев разъят / словно глухой дебил / музыку победил».
Эта безысходность содержит в себе, впрочем, возможность потенциальной пересборки мира, в котором бесприютные осколки слов и внесловесных аффектов могут оказаться пригодным строительным материалом.
Данила Давыдов



