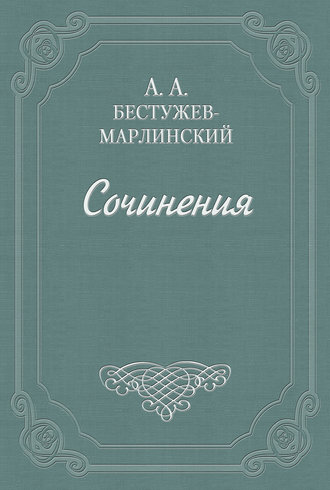
Александр Бестужев-Марлинский
Красное покрывало
На одном из холмов я давно видел женщину, стоящую над могилой… она была высокого роста, и длинное красное покрывало широкими складками струилось до земли, – но как подобные явления вовсе не редки в землях мусульманских, где частые поминки по умершим считаются священным долгом для оставшихся, – я не обращал на нее внимания. Не раз бродящие окрест взоры мои останавливались на стройном стане ее, и снова погруженный в задумчивость, я забывал о ней, забывая все земное. Но вот протекло более четырех часов, как я на кладбище, и она не трогалась с места, не изменяла положения: она сама казалась истуканом надгробным. Это изумило меня. Мусульманка – и в такой поздний час – посреди неверных, вблизи русского стана? Правда, что турчанки скорее одноземцев своих ознакомились с великодушием русских, и в городе, не страшась, ходили поодиночке, – но вечером и за городом – никогда. Гибельная ревность своих страшила их во сто раз более, чем встреча с победителями, и бумажный фонарь был необходимым условием для тех, которых необходимость принуждала выйти ночью на улицу в сопровождении мужа или родственника. Любопытство подстрекнуло меня, и, забросив на плечо полу плаща, я тихими шагами пошел к незнакомке.
Холм, на котором стояла она, занят был армянским кладбищем, сливающимся с прочими. Смерть помирила враждующих: правоверный лежал рядом с христианином; жертва и палач вместе – крест подле столба, увенчанного чалмою. Я приблизился. Я уже стоял перед незнакомкою, – но она не видала, не слыхала меня. Красное покрывало ее отброшено было с лица – и как прелестно, как выразительно было бледное лицо ее, обращенное к небу!.. на полураскрытых коральных устах исчезал, казалось, ропот – и дико блуждали в пространстве черные ее очи. Какая безотрадная горесть напечатлена была на этом высоком челе, какое гордое отчаяние сверкало из этих бесслезных очей, какие горькие жалобы таились в этой белоснежной груди, волнуемой вздохом неразрешимым!! Есть чувства, которых не дерзал еще выразить ни поэт, ни живописец – такое безмолвное чувство трепетало в каждой жилке красавицы… Сердце мое сжалось, и глубокое соучастие вырвалось речью… Тон голоса смягчил нескромность вопроса.
– Ханум (госпожа)! – сказал я ей по-татарски, – ты, верно, оплакиваешь родного?
Турчанка вздрогнула, но не закрыла лица по общему обычаю азиаток: властительное чувство тоски убило в ней все другие заботы. Казалось, она пробудилась от тяжкого сна моим голосом… Взоры ее остановились на мне, – но ответ ее был едва внятен, – она будто разговаривала с сердцем своим…
– Да, я оплакиваю родного, – сказала она. – Он был мне все на земле: отец мой, брат мой, любовник, супруг! Как заботливый родитель, он дал мне новую душу… как нежный родственник, лелеял меня, – как страстный жених, любил меня, – и я любила его, – примолвила она. – Но это слово пронзило мою душу… – Она склонила голову на сжатые судорожно руки.
– Утешься, красавица, – сказал я, – твой милый теперь в раю.
Лицо ее вспыхнуло.
– Да, он стоил любви самих небожительниц Гурий еще на земле! – отвечала она. – Но я знаю его сердце – оно бы стало и с ними грустить о верной подруге, которая для самого Азрафила не изменит ему и мертвому. Нет, ревность моя к небу была бы напрасна. Не в рай Магомета – в рай Аллы улетела светлая душа его – он был Христианин!







