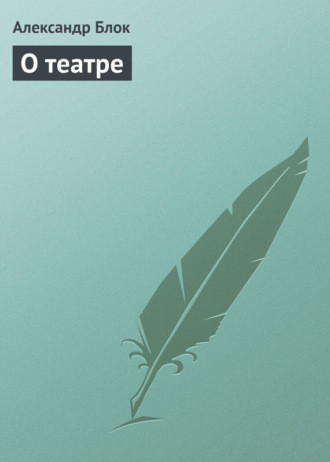
Александр Блок
О театре
И, может быть, вся наша борьба есть борьба за цельность жизни, против двойственности эстетики. Это – как бы новое «разрушение эстетики». И в этой борьбе терзает нас новое, быть может самое глубокое, противоречие: мука о красоте. Ведь жизнь – красота. Как бы, «разрушая» эстетику, сокрушая двойственность, не убить и красоту – жизнь, цельность, силу, могущество. Вихрь чувств, мыслей, движений вдохновения, страсти, бессилия, отчаянья: где добро и где зло? Чему сказать свое прямое «да»? Кому крикнуть свое честное «нет»?
Но я должен вернуться к теме. – Критики были бы правы в своих безысходных жалобах на современное растление и праздное брожение общественных и личных сил, если бы снега, застилающие наши дороги, не дышали нам в лицо весной. Пока лежит снег, мы не знаем, куда идти, где приклонить голову. И вот мы свидетели давно не слыханного: передовые умы сравнялись по отношению к некоторым вопросам с умами, не могущими отдать себе отчета в самых простых явлениях. Передовые умы не могут сказать прямого «да» или «нет», противоречия и двойственность заразили всех поголовно. Мы говорим обо всем так вяло и так бледно – но почему? Потому что в корне всех проблем, развернувшихся перед нами, лежит одна какая-то гигантская предпосылка, имя которой – сомнение. Нас приглашают к гносеологическому обоснованию наших суждений. Я не думаю, чтобы это было воистину хлебом для нас. Теория познания может оказаться самым тяжким камнем для того, в ком заражены сердце, кровь и воля – заражены горестными восторгами современности.
Мы страшно много говорим о театре, вмешиваемся во все подробности, закулисные вопросы становятся модными, слово «стилизация» – достоянием распивочных листков; публика готова слушать самые конкретные и самые отвлеченные речи о театре прошедшего, настоящего и будущего. Но чем больше мы говорим об этом, чем глубже зарываемся в подробности истории и техники, тем неумолимей восстает перед нами основной вопрос. Речами этого вопроса не заглушить. И вот я хотел бы встретить человека, который от чистого сердца, глядя мне прямо в глаза, ответит мне: нужен или не нужен театр? Я знаю, многие сочтут этот вопрос праздным, грубым, утилитарным. Я не отрицаю страшной опасности утилитарной постановки вопросов об искусстве, но, как мне уже приходилось писать, считаю эти вопросы глубоко современными и насущными. Такого вопроса «конем не объедешь»; если формула «искусство для искусства» пуста, как свищ, а формула «искусство для жизни» – плотна и противна, как сытное кушанье, – то лучше останемся без всяких формул, но не будем игнорировать того камня, на котором суждено всем нам споткнуться.
8
Итак, нужен или не нужен театр? Так же, как я знаю, что внешним образом все или почти все ответят мне: «Нужен», так же я знаю, что все скроют от меня свое самое тайное, самое глубокое сомнение. Ибо – где же критерий? Посмотрите на петербургские или московские театры – все без исключения.
«Театр не вышел из своего угнетенного состояния. О нем много пишут и говорят, на него тратят много денег, но, как культурная сила, он остается величиной ничтожной. Театр остается местом развлечения. Это развлечение бывает иногда красиво, изящно, не без идейного оттенка, чаще грубо, вульгарно, низменно; но уже одно отношение к театру как к развлечению губит его. Драматурги знают „свою публику“, публика привыкла к „своим драматургам“, и вечера, миллионы вечеров в тысячах дорогих и простеньких театров мира представляют из себя такое же убивание времени, как винт».
Это – цитата из замечательной статьи Луначарского – о социалистическом театре. Примечательно, что эти слова как бы повторение смысла слов Лессинга, который говорит в «Гамбургской драматургии»: «Хорошо известно, как серьезно относились греки и римляне к своему театру, особенно же греки и особенно к трагедии. Напротив того, как равнодушно и холодно относится к театру наш народ! Откуда же это равнодушие, если оно не объясняется тем фактом, что греческий театр наполнял зрителей такими сильными и необычайными ощущениями, что они едва могли дождаться того момента, когда снова и снова будут испытывать их; мы же получаем от нашей сцены столь слабые впечатления, что редко считаем их стоящими затраченных денег и времени. Мы почти все и почти всегда идем в театр из любопытства, из моды, от скуки, из желания быть в обществе, из желания на людей поглядеть и себя показать; лишь немногие и очень редко идут в театр под влиянием других побуждений».
Итак, мы видим чрезвычайное совпадение мнений великого критика театра XVIII столетия – и критика начала нашего века… Если мы вслушаемся еще в слова Рихарда Вагнера, сказанные им в годы революции прошлого века, и поверим ему, то совершенно отчаемся в реальной ценности какого бы то ни было театра в наши дни, ибо «добросовестный художник, – говорит Вагнер, – должен признать с первого взгляда, что христианство не было искусством и не могло никоим образом дать жизнь истинному живому искусству». «Истинная сущность искусства, которое в настоящее время заполняет весь цивилизованный мир, – индустрия, его моральная цель – нажива, его эстетический предлог – развлечения для скучающих. Из сердца нашего современного общества, из его кровеносного центра, спекуляции на широкую ногу, берет наше искусство свои питательные соки, оно заимствует бездушную грацию у безжизненных остатков рыцарской средневековой условности и благоволит спускаться с видом христианской благотворительности, которая не брезгует даже лептой бедняка, до самых глубин пролетариата и, нервируя, деморализуя, лишая человеческого облика, всюду, где разливается яд его соков.







