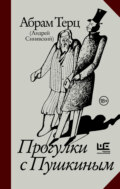Александр Генис
Картинки с выставки. Персоны, вернисажи, фантики
Алфавит Шагала
– Оксюморон, – сказал Эпштейн, когда мы с ним подходили к Еврейскому музею Нью-Йорка, – такого, в сущности, не может быть.
– Конечно, – согласился я, – музей нарушает вторую заповедь: «Не сотвори себе кумира».
– Поэтому, – неожиданно заключил Миша, – среди мастеров авангарда столько еврейских художников. Борясь с ортодоксальным подсознанием, они не решались изображать мир таким, каким он создан, чтобы не вступать в конкуренцию с Богом. Отсюда деформации видимых образов, которые, собственно, и отличают авангард от реализма.
– Искажая реальность, – обрадовался я мысли, – художник словно просит у нее прощения за свое кощунственное ремесло. Вот так благочестивые евреи пропускают из благоговения букву в слове «Б-г».
Шагал, однако, благоговел громко, не стесняясь своего богоборческого искусства. Его картины живут озвученными: они кричат и поют. Не зря работы художника украшают оперные театры – и нью-йоркский, и парижский. Побывав в последнем, Солоухин брезгливо пожаловался на то, что французы смешали высокое искусство с местечковым. По-своему он был прав. Шагал хотел вместить мир в родной штетл и научил всех говорить на его языке.
Накануне XXI века лучше всех приспособленный к ретроспективам музей Гуггенхайма устроил смотр искусству уходящего века. Обойдя внутри гениальной спирали все школы и направления – от раннего Пикассо до позднего, – я восхищался всеми, но жить бы хотел только с картинами Шагала. В них тепло, уютно, до земли недалеко, но и к небу ближе.
Неудивительно, что каждый раз, когда в Нью-Йорке устраивают его выставки, приходят толпы. На этот раз экспозиция покрывала самые трудные годы – военные[7]. Сперва Шагал надеялся отсидеться в Провансе, но вскоре пришлось бежать в Нью-Йорк, откуда он перебрался в Катскильские горы. Жил в маленьком городке Крэнберри-Лэйк (и правда – озеро, я в нем ловил рыбу). Там художника никто не знал. Однажды Шагал хотел расплатиться за визит к местному доктору своим рисунком. Сельский врач предпочел два доллара, чего ему так и не простили наследники.
Все бы ничего, но в Америке внезапно умерла его жена и муза – возлюбленная Белла. Горюя, Шагал перестал работать. Беспокоясь об отце, дочь нашла ему компаньонку (племянницу, не могу не сказать, того самого Хаггарда, что написал «Копи царя Соломона»). Шагал на ней женился и снова стал писать свадьбы, цветы и ангелов. После войны вернулся во Францию и умер в лифте, поднимаясь в мастерскую. Ему было девяносто семь. Но все главное в этой растянувшейся почти на век жизни произошло в самом начале. В сущности, Шагал всю жизнь писал свое детство, когда он, как Адам, открыл мир и назвал его по-своему. В Париже, считая мастерскую Эдемом, он писал картины голым.
– Я бродил по улицам, – вспоминал Шагал в мемуарах, – и молился: «Господи, Ты, что прячешься в облаках или за домом сапожника, яви мне мой путь, я хочу видеть мир по-своему». И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей.
– Почему у Шагала все летают? – спросил я у внучки Шолом-Алейхема Бел Кауфман, знавшей художника.
– Кто бы о нем говорил, если бы у него не летали, – не без ехидства ответила она.
– Почему у Шагала все летают? – спросил я у знакомого книжника.
– Евреи жили так скученно, что от тесноты можно было сбежать только в небо.
– Почему у Шагала все летают? – спросил я у одноклассника, ставшего хасидом.
– Искра божественности тянется к своему Создателю, и у святых цадиков приподнимается бахрома на одежде.
– А почему мы этого не видим?
– Глухой, ничего не знавший о музыке, увидел пляшущих на свадьбе и решил, что они сошли с ума, – ответил он мне хасидской притчей, и, вооружившись ею, я отправился на выставку.
Больше всего там было Христа. Таким был ответ Шагала на Холокост. Для него распятый был прежде всего бедным евреем. У шагаловского Христа – глаза коровы, невинной жертвы, которая все терпит и никогда не ропщет, хотя и не знает за собой вины. Таких коров резал дед-мясник. Животные – самые красивые существа на его полотнах. Они прекрасны и невинны, как дети и ангелы. Последними кишат его картины.
– Естественно, – сказал хасид, – каждое доброе дело порождает ангела.
– Еще бы, – поддакнул я.
– А каждый грех, – и он покосился на меня, – демона.
На картинах ангелов больше, но в шагаловской «Гернике» («Падение ангела», которое он под давлением истории переписывал раз в десять лет) они сыплются сверху, как бомбы, словно само небо не выдержало ужаса происходящего.
Обычно, однако, на холстах Шагала все взлетает, а не падает. Он – художник радости, а не горя. Мир у него пребывает в том регистре восторженной экзальтации, которую я встречал – вопреки названию – у Стены плача. Радость на его картинах прячется, как магма, под окостеневшим слоем обыденного. Выпуская ее на волю, Шагал восстанавливал противоестественное положение вещей.
– Все мы, – писал он, – робко ползаем по поверхности мира, не решаясь взрезать и перевернуть этот верхний пласт и окунуться в первозданный хаос.
Чтобы увидеть его глазами художника, надо подойти к холстам вплотную. Абрам Эфрос, первым открывший гений Шагала, считал его мазок самым красивым во всей отечественной живописи. И действительно, если смотреть долго и вблизи, то начинаешь понимать художественную логику мастера. Собираясь с окраин полотна, мазки исподволь стягиваются в образ. Становясь все гуще, краска топорщится ближе к центру. Эта «тактильная» живопись будто рвется к трехмерным видам искусства – мозаике и, конечно, витражам, которыми Шагал заполнил Иерусалим, Нью-Йорк и соборы Франции, оставшиеся после войны без стекол.
Но если подойти еще ближе, так, чтобы забыть о расплывшемся сюжете, можно проследить за поэтической эволюцией мазков. Вот так Бродский советовал читать стихи, ставя себя в положение поэта. Как всякая строка требует продолжения и конкретного решения, так один мазок тянет за собой другой, словно рифма – строчку. Вызов палитры рождает композицию. Люди и вещи вызываются из небытия потребностью художника в динамичном равновесии, в красочном балансе и цветовой гармонии.
– После Матисса, – говорил Пикассо, – никто не понимал цвета лучше Шагала.
Не доверяя ни одной школе, презирая манифесты и теории, Шагал не создал своей мифологии, которая так часто помогала художникам в их отношениях с критиками. Вместо богов и героев, символов и аллегорий, сознательных и подсознательных намеков Шагал обращался к персональному алфавиту вещей, обставивших его ментальную вселенную.
Часто это была парящая в небе рыба. Она напоминала о селедке, местечковой манне небесной. Еще чаще – скрипка, сопровождавшая и создававшая праздник. Иногда часы – старинные, монументальные, с бронзовым маятником и громким ходом. Не обязательная, но престижная – «буржуазная» – роскошь, такие часы были не символом бренности или пластичности времени, как у Дали, а знаком домашнего уюта, вроде абажура у Булгакова. И всё это взлетало в воздух от тихого взрыва, который производила кисть художника. Шагал пишет лопнувший от восторга мир.
Конечно, на его полотнах есть страх, кровь, распятый еврей и горящие крыши. Но это – кошмар заблудившейся истории. Благодаря Шагалу ей есть куда вернуться.
Ноябрь Эндрю Уайета
Выступая в книжном магазине «Москва» одноименного города, я имел неосторожность заметить, что американцы не знают русских художников, кроме, разумеется, Малевича.
– Дикари, – брезгливо сказала дама, напоминающая завуча.
– Ну а вы, – обиделся уже я, – можете назвать американского художника, кроме, разумеется, Уорхола?
– Как можно сравнивать, – вскипела дама. – У нас – Шишкин, Репин, «Последний кабак у заставы».
Не желая ее еще больше огорчать, я не стал ей говорить, что все это есть и в Америке. Ровесница светского искусства России, американская живопись шла тем же путем, подражала тем же авторитетам и пришла к тем же результатам. В «американской Третьяковке», которой можно смело назвать туземное крыло музея Метрополитен, легко найти параллель каждому отечественному художнику. И пейзажи Гудзонской школы, будто списанные у наших романтиков, и картины жанристов-передвижников, вскрывавшие социальные язвы на манер Перова, и батальная экзотика, живо напоминающая Верещагина, и исторический, как у Сурикова, эпос знаменитой «Переправы Вашингтона через Делавэр». Все, что мы числим сугубо своим, оказалось универсальным. Правда, наши все же лучше – и к Европе ближе, и заказчики богаче, и корни глубже, и нам дороже. Собственно, потому я и могу обойтись без американских классиков, что мне хватает своих. В Америке я люблю то, чему нет замены, и езжу к нему в гости.
Речка Brandywine (по-русски – Ёрш) считается живописной и покойной. На ее берегах растут вековые дубы и медные буки. Богачи здесь живут на пенсии, остальные приезжают в отпуск. В XVII веке эти края назывались Новой Швецией, которая граничила с Новой Голландией и чуть не вступила с ней в войну. От тех времен остались топонимы, церквушка в негритянском гетто и северные корни местных фермеров, во всяком случае, тех, кого писал Эндрю Уайет[8].
Моим любимым американским художником он стал с тех пор, как я увидал его работу на обложке русского издания Сэлинджера. Другая картина – «Мир Кристины», на которую молится нью-йоркский Музей современного искусства, – прибавила пыла. Но, только добравшись до дома Уайета, я ощутил себя не поклонником, а паломником.
Чеддс-Форд может считаться городком лишь потому, что здесь стоит музей Уайета. В остальном мало что изменилось. Аграрный пейзаж стал дачным, жизнь осталась пасторальной и воздух – чистым. Всю местную промышленность исчерпывает монетный двор, а деньги, как известно, не пахнут.
Век назад Уайет-старший, соблазнившись окрестностями, купил ферму для красоты, а не пользы. Знаменитый художник-график, он проиллюстрировал всю приключенческую классику, начиная с «Острова сокровищ». После натурщиков романтические костюмы донашивали дети. Всех их отец научил рисовать, но только Эндрю в двадцать лет завоевал Нью-Йорк акварелями. Он писал их стихийным мазком – по восемь штук в день. Не удивительно, что ему быстро надоело.
Перелом завершила смена техники. Уайет открыл темперу и стал работать как мастера Ренессанса: растирал краски на куриных желтках и писал на досках. Даже отец не понимал, зачем так мучиться. Форма, однако, определилась замыслом. Уайет хотел быть старомодным, что в XX веке оказалось особенно трудным. Перестав быть ремесленником, современный художник перепробовал другие роли – мыслителя, поэта, демиурга, наконец юродивого. Постепенно живопись отвернулась от мира и занялась самовыражением. Диктуя зрителю собственные законы, она запрещала сравнивать себя с реальностью. И правильно делала, ибо после Эйнштейна, мировых войн и социальных революций уже никто не знал, что такое реальность и есть ли она вообще. Уайет, однако, в нее верил и пытался найти.
– В моих картинах, – объяснял он свой метод, – я не меняю вещи, а жду, когда они изменят меня.
Ждать приходилось долго, но Уайет никуда не торопился и писал всю жизнь одно и то же: соседние фермы, соседние холмы, соседей. Скудость его сюжетов декларативна, а философия чужда и завидна.
Хайдеггер в том немногом, что я понял из книги «Бытие и время», обличает мою любимую страсть.
– Любопытство, – пишет он, – похоть очей, оно ищет нового, чтобы забыться в мире, вместо того, чтобы наслаждаться праздностью созерцательного пребывания.
Тех, кто «потерялся в случайном и запутался в нем», Хайдеггер называет «обезьянами цивилизации». Боясь, что это про меня, я учусь сидеть на месте или хотя бы следить за тем, у кого это получается, как у Уайета. Его картины для меня – вызов терпеливого интроверта, и я мечтаю проникнуть в них, чтобы испытать то же, что автор.
Подглядывая за вещами, Уайет обнаружил их молчаливую жизнь, которая зачаровывает до жути. Другие картины притворяются окном, его – служат колодцем. Опустившись до дна, Уайет перестал меняться, оставаясь собой до конца. (Он прожил 91 год и умер в 2009-м.) Подводя итог, критики назвали его самым переоцененным и самым недооцененным художником Америки. Это не столько парадокс, сколько констатация факта. Уайета все знают, но никто не знает – почему. Ближе всех к ответу подошли враги и соперники.
– В этой живописи нет красок, – говорят они, – его картины мертвы, как доски.
Так оно и есть. Уайет писал мир бурым и жухлым. Люди у него не улыбаются, а вещи не бывают ни новыми, ни интересными, ни полными. Если ведро, то пустое, если дом, то покосился, если поле, то бесплодное. На его картинах царит одно время года – безнадежный ноябрь. Снега еще нет, листьев – уже нет, лето забылось, весна под сомнением. Завязнув в грязи, природа не мельтешит, выглядит серьезной, вечной. Уподобляясь ей, художник сторожит не мгновенное, как импрессионисты, а неизменное, как богословы. Идя за ними, он изображает порог, отмечающий границу постижимого. Дойдя до нее, художник заглядывает в нечто, не имеющее названия, но позволяющее собой пропитаться. Как ведьма – порчу, Уайет наводил на зрителя ностальгию. Вещи становятся твоими, люди – близкими, пейзаж – домом, даже если он – коровник.
Глядя на него (слепящая белизна стен, приглушенный блеск жести, неуверенный снег на холме), я не могу отделаться от чувства, что уже это видел в другой, но тоже своей жизни. Вырвав намозоленный его глазом фрагмент и придав ему высший статус интенсивности, художник внедрил в меня ложную память.
Кто же не знает, как это бывает?! Слова, жест, оттенок, лоскут или аромат приобретают над нами пугающую, если вдуматься, власть и необъяснимое, если забыть о Фрейде, значение. Не символ, не аллегория, а та часть реальности, что служит катализатором неуправляемой реакции. Сдвигая внешнее во внутреннее, она превращает материальное в пережитое.
Не умея описать трансмутацию словами, критики привычно называют реализм Уайета «магическим». Но его коровы не летают, как у Шагала, а смирно пасутся на видном из окна холме. Фантастика – не в остранении, а в материализации.
Подобное есть в «Солярисе» Тарковского. В фильме разумный Океан вынимает из подсознания героев не только людей, но и натюрморты и пейзажи. Поскольку мы для Океана прозрачны, он не умеет отличить сознание от подсознания и материализует самые яркие – радиоактивные – сгустки скопившегося в душе опыта.
У Уайета они прячутся на такой глубине, что нужен, как уже было сказано, колодец. На него намекает одна из самых поздних работ художника, которая, чудится мне, навеяна кадром Тарковского. На этой крайне необычной картине изображен вид из самолетного иллюминатора. С заоблачной высоты мы видим далеко внизу знакомые дома Чеддс-Форда. Судя по названию – «Тот свет», – престарелый художник так представлял свое скорое будущее, в которое он унесет фрагмент реальности размером с почтовую марку.
А нам останется другая – моя любимая – картина «Снежный холм». На нем, взявшись за разноцветные ленты, пляшут вокруг шеста с колесом те, кого Уайет писал чаще всех. Карл Кёрнер, немецкий эмигрант в каске и шинели Первой мировой, его сумасшедшая жена Анна, негр-помощник с крюком вместо руки, рыжая соседка Хельга. Всех их Уайет собрал на многозначительном, как Голгофа, холме, но себе он там места не нашел: одна лента пустая.
– Лучший художник, – говорил Уайет, – человек-невидимка.