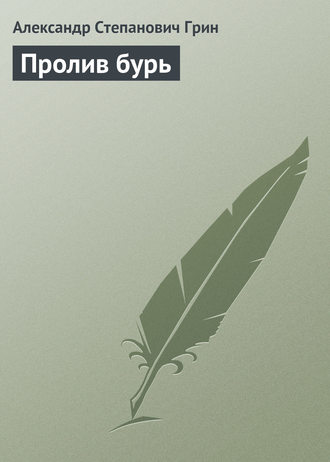
Александр Грин
Пролив бурь
VII
Сбивчивыми, спутанными словами, запинавшимися друг о друга, как люди в стремительно бегущей толпе, выложил Аян все, что, по его мнению, могло интересовать Стеллу. Она не перебивала его, иногда лишь, кивая головой, ударяла носком в пол, когда он останавливался.
Аян начал с Пэда, но скоро и незаметно для самого себя рассказал все. Что хотел он сказать? Прослушайте песню дикаря, плывущего на восходе вниз по большой реке. Он складывает весла и думает вслух низкими, гортанными нотами. Мысли его цветисты и беспорядочно нагромождены друг на друга – упомянув об отточенной стреле, он забывает ее, чтобы воздать хвалу цветущему дереву. Аян говорил о смерти под пулями, и смерть казалась невзрачной, как простая контузия; о починке бегучего такелажа, о том, что в жару палубу поливают водой. Он упомянул знойный торнадо, попутно прихватив штиль; о призраке негра, о несчастьях, приносимых кораблю кошками, об искусстве лавировать против ветра, о пользе пепла для ран, об огнях в море, кораблях-призраках. Мертвая зыбь, боковая и килевая качка, ночные сигналы, рыбы, летающие по воздуху, погрузка клади, магнитные бури, когда стрелка компаса пляшет, как взбешенная, – все было в его словах крепко и ясно, как свежая ореховая доска. Он говорил о схватках, где полуживых швыряют за борт, стреляют с ругательствами и острят, зажимая дыру в груди. Тут же, как бы стирая кровь, рассказ перешел к бризу, пассату, мистралю, ост-индским циклонам, тишине океана, расслабляющей тоске зноя. Утренние и вечерние зори, уловки шторма; рифы, разрезающие корабль, как бритва – газетный лист…
Аян остановился, когда Стелла поднялась с кресла. Жизнь моря, пролетевшая перед ней, побледнела, угасла, перешла в груду алмазов. Девушка подошла к столу, руки задвигались, подымаясь к лицу, шее и опускаясь вновь за новыми украшениями. Она повернулась, сверкающая драгоценностями, с разгоревшимся преображенным лицом.
– Все здесь, – громко сказала Стелла. – Все, о чем вы рассказали, – на мне.
Аян встал. Девушка мучительно притягивала его; страдающий, восхищенный, он что-то шептал потрескавшимися от внезапного внутреннего жара губами, бледный, как холст. Борьба с собой была выше его сил – он взял руку Стеллы, быстро поцеловал ее и отпустил. Поцелуй этот напоминал укус.
Стелла не пошевелилась, даже не вздрогнула. Слишком все было странно в этот тихий солнечный день, чтобы разгневаться на грубое поклонение, от кого бы оно ни исходило. Только слегка поднялись брови над снисходительно улыбнувшимися глазами: руку поцеловал мужчина.
– Мальчик, – произнесла она, и голова ее повернулась тем же движением, как через несколько дней в гостиной, среди общества, – я нравлюсь тебе?
– Я целовал портрет, – глухо сказал Аян. – Я думал, что это ты.
Девушка рассмеялась. В тот же момент ее схватила пара железных рук, совсем близко, над ухом волна теплого дыхания обожгла кожу, а в сияющих, полудетских, о чем-то молящих, кому-то посылающих угрозы глазах горело такое отчаяние, что был момент, когда комната поплыла перед глазами Стеллы и резкий испуг всколыхнул тело; но в следующее мгновение все по-прежнему твердо стало на свое место. Она вырвалась.
Наступило молчание, долгое, как столетие. Попугай громко скрипел, поворачиваясь в кольце. Аян шумно дышал, горе его было велико, безмерно; бешеная, стыдливая улыбка дрожала в лице. Слова, услышанные им, были резки и сухи, как окрик всадника, несущегося по улице:
– Уйдите сейчас же! Прочь!
Он постоял некоторое время, не двигаясь, как бы взвешивая смысл сказанного; затем без рассуждений и колебаний, дрожа от гнева, поднес к виску дуло револьвера. Он действовал бессознательно. Оружие, вырванное маленькой, но сильной рукой, полетело к стене.
Он поднял глаза, полные слез, и они туманом застилали лицо девушки. Комната качалась из стороны в сторону.
– Аян, – мягко сказала девушка, остановилась, придумывая, что продолжать, и вдруг простая, доверчивая, сильная душа юноши бессознательно пустила ее на верный путь. – Аян, вы смешны. Другая повернулась бы к вам спиной, я – нет. Идите, глупый разбойник, учитесь, сделайтесь образованным, крупным хищником, капитаном. И когда сотни людей будут трепетать от одного вашего слова – вы придите. Больше я ничего не скажу вам.
И тотчас улыбка радости ответила ее словам – так было немного нужно, чтобы воспламенить порох.
– Я уже думал об этом, – тихо сказал Аян. – Вы не будете стыдиться меня. У нас все вверх дном. Я знаю судно не хуже гордеца Гарвея. Я научился разбирать карты и обращаться с секстаном. Я приду.
Что-то похожее на жалость мелькнуло в глазах Стеллы. Она склонилась, и легкое прикосновение ее губ обожгло лоб Аяна.
– О! – только сказал он.
– Идите же! Идите!
Пошатываясь, Аян открыл дверь. Девушка-сон задумчиво смотрела на его лицо, полное благодарности. Повинуясь неведомому, он вышел на галерею; только что пережитое лежало в его душе мучительной сладкой тяжестью. На пороге он обернулся, последние сказанные им слова дышали безграничным доверием:
– Я – приду!
VIII
От железнодорожной приморской станции до глухого места у каменного обрыва берега, где была спрятана шлюпка, Аян шел пешком. Он не чувствовал ни усталости, ни голода. Кажется, он ел что-то вроде маисовой лепешки с медом, купленной у разносчика. Но этого могло и не быть.
Когда он взял весла, оттолкнув шлюпку, и плавная качка волны отнесла берег назад – тоска, подобная одиночеству раненого в пустыне, бросила на его лицо тень болезненной мысли, устремленной к городу. Временами ему казалось, что долго, в жару спал он где-то на солнцепеке и проснулся с болью в груди, потому что сон был прекрасен и нежен, и видения, полные любовной грусти, прошли мимо его ложа, а он проснулся в знойной тишине полдня, один. Все, как было, живое, с яркой остротой действительности неотступно носилось перед его глазами, блестевшими сосредоточенным светом воли, направленной в одну точку.
Море дымилось, вечерний туман берега рвался в порывах ветра, затягивая Пролив Бурь сизым флером. Волнение усиливалось; отлогие темные валы с ровным, воздушным гулом катились в пространство, белое кружево вспыхивало на их верхушках и гасло в растущей тьме.
Аян, стиснув зубы, работал веслами. Лодка ныряла, поскрипывая и дрожа, иногда как бы раздумывая, задерживаясь на гребне волны, и с плеском кидалась вниз, подбрасывая Аяна. Свет фонаря растерянно мигал во тьме. Ветер вздыхал, пел и кружился на одном месте, уныло гудел в ушах, бесконечно толкаясь в мраке отрядами воздушных существ с плотью из холода: их влажные, обрызганные морем плащи хлестали Аяна по лицу и рукам.
Встревоженный матрос перестал грести. Берег был близко, но в этом месте представлял больше опасности, чем защиты, потому что по крайней мере на полумилю тянулся здесь голый отвесный камень, изрезанный трещинами. Он снова схватил весла, торопясь проплыть скалы. Опасность пришпоривала его; согнувшись, упираясь ногами, Аян греб, и весла гнулись в его руках, окаменевших от продолжительного усилия. Иногда, подброшенный сильным толчком, он должен был приседать, чтобы сохранить равновесие; сесть снова после этого на скамью ему удавалось только при помощи инстинкта, управляющего движениями. Кругом бушевал воздух; немое смятение охватывало пролив; волны метались, подобно темному стаду, гонимому паникой во время пожара. Это был шторм.
Прошло несколько времени, и ветер переменил фронт. Теперь он обрушивался с берега; сильнейшая боковая качка встряхивала суденышко Аяна легче пустого мешка, возилась с ним, клала на левый и правый борт, и тогда какое-нибудь из весел бессильно ударяло по воздуху. Море пьянело; пароксизм ярости сотрясал пучину, взбешенную долгим спокойствием. Неясные голоса перекликались в воздухе: казалось, природа потеряла рассудок, слепое возмущение ее переходило в припадок рыдания, и вопли сменялись долгим, бурным ревом помешанного.
Лодку стремительно несло в сторону. Валы, катившиеся теперь от берега, отодвигали ее толчками, как нога отбрасывает встречный предмет. Аян превратился в слух, инстинкт стал зрением, борьба шла ощупью. Он подымал весла, как воин подымает оружие, и отражал удар всей силой своих мышц в тот момент, когда тьма грозила уничтожением, – ничего не видя, читая в глухом стремительном водовороте стихий внутренними глазами души. Он угадывал, предупреждал, наносил удары и отражал их; бросал ставки и брал назад, игра шла вничью. Его качало, ударяло о борт, подымало на высоту, рушило вниз, подбрасывало. Соленые, бьющиеся в лицо брызги, целые лохмотья воды, сорванные штормом, хлестали его по голове и телу, мокрая одежда стесняла движения, шлюпка приобрела легкость испуганного, травимого человека, мечущегося во все стороны.
Ослепительная фиолетовая трещина расколола тьму, и ночь содрогнулась удар грома оглушил землю. Панический, долгий грохот рычал, ворочался, ревел, падал. Снова холодный огонь молний зажмурил глаза Аяна; открыв их, он видел еще в беснующейся темноте залитый мгновенным светом пролив, превращенный в сплошную оргию пены и водяных пропастей. Вал поднял шлюпку, бросил, вырвал одно весло – Аян вздрогнул.
Море одолевало его. Он мог теперь совсем не сопротивляться, игра шла к концу. Он как будто окаменел, застыл, ошеломленный случившимся. Он мог только ждать, возмущаться, впасть в отчаяние, кричать, безумствовать.
Глухой гнев наполнял Аяна. Он уцепился за борт, бросив оставшееся весло на дно шлюпки. Бороться дальше он счел бы для себя унижением, смешной попыткой обуздать стадо коней. Он не хотел показывать врагу растерянности. Одна мысль, что океан может обрадоваться его испугу, его жалкой защите с помощью голых рук, привела его в состояние свирепой ненависти. Он презирал море, нападающее на одного всей силой водяной армии. Смерть не пугала его напротив, обезоруженный, он без колебания отверг бы пощаду, чтоб не подвергаться унижению жизни, брошенной в виде милостыни. Он приготовился плюнуть в лицо торжествующему победителю. Спокойный, насколько это было возможно, Аян крикнул:
– Жри! Подавись! Собака! Цепная собака!
Залитый водой, измученный, он осыпал пролив презрительными ругательствами, дерзкими оскорблениями, издевался, придумывая самые язвительные, обидные слова.
– Подлый трус!.. Ты воешь, как гиена!.. Корыто акул, оплеванное моряками!.. Пугай детей и старух, продажная тварь. Иуда!
Снова упала молния, ее неверный свет озарил пространство. Удары грома следовали один за другим, резкий толчок подбросил шлюпку. Аян упал; поднявшись, он ждал немедленной течи и смерти. Но шлюпка по-прежнему неслась в мраке, толчок рифа только скользнул по ней, не раздробив дерева.
– Жри же! – с презрением повторил Аян.
Он встал во весь рост, еле удерживаясь на ногах. Все чаще сверкала молния; это был уже почти беспрерывный, дрожащий, режущий глаза свет раскаленных, меняющих извивы трещин, неуловимых и резких. Впереди, прямо на шлюпку смотрел камень. Он несколько склонялся над водой, подобно быку, опустившему голову для яростного удара; Аян ждал.
И вдруг кто-то, может быть воздух, может быть сам он, сказал неторопливо и ясно: «Стелла». Матрос нагнулся, весло раскачивалось в его руках – теперь он хотел жить, наперекор проливу и рифам. Молнии освещали битву. Аян тщательно, напряженно измерял взглядом маленькое расстояние, сокращавшееся с каждой секундой. Казалось, не он, а риф двигается на него скачками, подымаясь и опускаясь.
Враги сцепились и разошлись. Мелькнула скользкая, изъеденная водой каменная голова; весло с треском, с силой отчаяния ударилось в риф. Аян покачнулся, и в то же мгновение вскипающее пеной пространство отнесло шлюпку в сторону. Она вздрогнула, поднялась на гребне волны, перевернулась и ринулась в темноту.
– Стелла! – крикнул Аян. Судорожный смех сотрясал его. Он бросил весло и сел. Что было с ним дальше – он не помнил; сознание притупилось, слабые, болезненные усилия мысли схватили еще шорох дна, ударяющегося о мель, сухой воздух берега, затишье; кто-то – быть може, он – двигался по колена в воде, мягкий ил засасывал ступни… шум леса, мокрый песок, бессилие…







