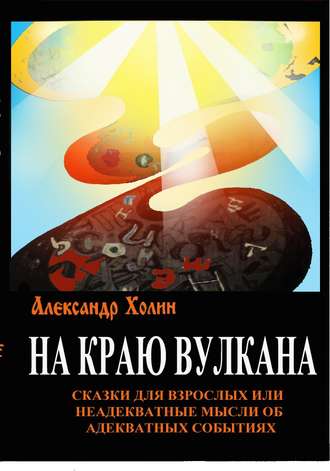
Александр Васильевич Холин
На краю вулкана. Сказки для взрослых, или Неадекватные мысли об адекватных событиях
Сказка про соловья
Посвящается Сергею Соловьёву
Старинный парк уже оделся листвой, ещё не успевшей покрыться сизой городской пылью и заманивал свежим весенним ароматом всех окрестных перелётных и не перелётных птиц.
На ветках старой раскидистой липы, также молодящейся в эти ласковые дни, примостилась неприметная соловьиная пара то ли обсудить какие-то свои птичьи проблемы, то ли просто отдохнуть. Соловьиха сидела, нахохлившись, не обращая внимания на прихорашивающегося рядом соловья, и была похожа на сердитую квохшу. Казалось, ни тёплый майский вечер, ни вновь зазеленевший парк, играющий весёлой листвой, не радуют её.
Соловей пытался растормошить свою подружку лёгким пощипыванием в крыло, но она только фырчала в ответ, совсем как свернувшийся в клубок ёжик.
– Ну, что на тебя, право, нашло сегодня? Может быть, я что-то не так сделал? – размышлял Соловей вслух, поскольку ничего кроме фырканья не смог добиться от Соловьихи.
– Вот именно! – встрепенулась та. – Вот именно! Не так сделал! Конечно, не так! Вон, полюбуйся, даже бродяга Воробей увёл для своей Воробьихи скворечник со всеми удобствами из-под самого носа у скворцов!
– Но я же…
– А Щегол для Щеголихи импортный пух достал!
– Но…
– А у Малиновки муж в саду американского посольства работает!
– Так ведь…
– Даже Пеночка пенки со сливок снимает, а я? – всхлипнула Соловьиха.
– Дорогая, я ведь тоже для тебя стараюсь что-то сделать. Ты же знаешь…
– Стараешься, стараешься. Да что ты вообще в жизни сделал? – не унималась Соловьиха.
– Но ведь я же певец, – защищался Соловей.
– Кому нужно твоё пение, идиот? Да и поёшь-то ты хуже Ворона!
– Ну, знаешь!..
– Знаю, знаю, – распушила хвост Соловьиха. – Дура я была, что на твои уговоры согласилась. Вон Ворон давно в жёны зовет. У него и дупло свое есть, и даже часы золотые. Говорит, заморский раджа подарил.
– Часов у меня нет, но ведь пение мое всем приносит радость, – пытался объяснить Соловей. – Все люди и даже Ворон с удовольствием слушают мои песни. Радость – это такое состояние души, когда любое существо на земле превращается в истинного творца!
– Вот и живи со своей радостью, – Соловьиха вспорхнула с ветки и исчезла в сгущающейся над парком темноте.
Соловей некоторое время сидел, молча, не шевелясь, но вдруг поднял к заполнившим вечернее небо звёздам свою грациозную головку и над Сокольниками полились необычайно прекрасные трели соловьиного плача.
Внизу, под липами, тьма казалась гуще и там, на скамейке, прикрываясь этой темнотой, как плащом, сидел человек. У его ног белело множество окурков. Видимо, он расположился на этой лавочке довольно давно и, выкурив очередную сигарету, бросал окурок себе под ноги, не обращая внимания на стоящую неподалеку урну.
Однако необычайная соловьиная трель отвлекла его от собственных вязких, как болотная топь, дум и он, прислушиваясь, пытался высмотреть певца в тёмных кронах дремучих лип.
– Ишь ты, что вытворяет, – еле слышно произнес человек, – можно подумать, в царстве Печали петь обучался. Только откуда ему знать про печаль? Такого знатного певца подруга не бросит, не то что… Эх, ладно, – досадно сплюнул человек, загасил башмаком очередной окурок и побрёл по вечерней аллее к дырке в заборе, за которым весело горели разноцветные окна домов, а вслед ему из темноты лились удивительные печальные трели о не нужной никому радости жизни.
Сказка про телефон
…сестре Галине
– Алё. А, это ты? Слушай, я с тобой хотела посоветоваться по одному очень важному делу, но это лучше потом, когда увидимся, а то по телефону, да еще и по сотовому, такие вещи не решают. Между прочим, я за сотовый телефон жуткую арендную плату вношу, так что если по телефону говорить, да ещё и по мобильнику, то только по делу. Кстати, о деле: я тебе давно хотела сказать, но это лучше потом. Ты мне потом позвони на работу по обычному телефону, и я тебе всё расскажу, а то по сотовому слишком дорогое удовольствие разговаривать даже по делу, пусть даже важному, пусть даже нужному. Тем более, что заехать ко мне на работу ты всегда можешь, когда я на работе работаю. Или лучше позвони по городскому, и мы обсудим, что там у нас на текущий момент накопилось. Нет, ты меня не перебивай, я тебе ещё не всё сказала. И вообще, перебивать не вежливо. Я в твои-то годы всё терпеливо выслушивала. Тем более, что я тебе по делу звоню. Кто? Ты звонишь? Это не важно. Важно другое: я с тобой сейчас разговариваю по мобильнику, между прочим, а знаешь какие деньги за абонентную плату дерут? Ужас! Тем более, что мне всё же ещё что-то кушать надо и на транспорт, и на мелочи всякие. А я ещё не слишком старая женщина и мне хочется себе иногда тряпочку какую-нибудь купить, а тут ещё и за мобильник плату вносить надо, так что вообще караул получается. Но я ведь ничего не говорю, я говорю, что по мобильнику лучше всего решать только важные вопросы. Или нет, важные вопросы не всегда важными бывают. Это ведь не неотложные дела, про которые действительно надо договариваться по сотовому. А по сотовому лучше всего договариваться на время, чтобы встретиться там-то и там-то и во столько-то, столько-то. Потому что если долго по мобильнику разговаривать, то можно на такую сумму наговорить. Ужас! Вот я и говорю. Да не ты, а я говорю про дела, что ты меня всё время перебиваешь, слова не даешь сказать?! И вообще, что такое срочное тебе хочется сообщить, чего я не знаю? И даже если не знаю, то я скоро приду на работу, а ты приезжай туда, и там поговорим, а то по мобильнику всякие там проблемы обсуждать – слишком дорогое удовольствие. Но я слушаю тебя, чего ты молчишь или вопрос сформулировать не можешь? Так ты лучше сначала подумай, что сказать хочешь, а то говорить соберёшься пока, так у меня уже все лимиты на разговоры закончатся, потому что по мобильнику говорить – это довольно дорого, разориться можно…
Сказка про чай
Сразу за нитяными вспышками прозрачного бабьего лета на город навалилась холодная ветреная непогодь, подкрашенная крапчатым дождливым небом с небольшими просветленными перерывами.
По мостовой, не особенно обращая внимание на всхлипывающие под ногами лужи, чуть ли не строевым чеканил человек в кожаном – до пят – пальто с поднятым по случаю непогоды воротником и надвинутой на глаза шляпе. Судя по всему, он шёл к особняку, перегородившему жёлтым оштукатуренным боком добрую половину кривой худосочной улочки, за что и прозвище получил благозвучное: «Камень преткновения».
Надо сказать, что в «Камне преткновения» частенько собиралась литературная братия отнюдь не христианского толку, поскольку богоборческую политику партии и правительства надо было донести в темные народные массы самым светлым и светозарным образом при помощи идеологически подкованных прорабов стройки, недостройки, перестройки и перекройки человеческих душ, а большинство писак малого, среднего и не крупного пера готовы были даже свои души «перековать на орала», лишь бы вовремя да поближе пустили к сытному Литфондовскому корытцу. И ковались будущие перековщики душ, в этом самом писательском вертепе уча и поучая друг друга за рюмкой чая, кулаками вышибая истину из пыльных толстовок товарищей и витийствуя зело при этом.
Банкетный зал «Камня преткновения» привычно зудел на разные голоса, так что вновь прибывший быстро вписался в тему, ничем особым не выделяясь и не обращая на себя внимания окружающих. Он примостился за свободным столиком, покрытым аляповатой заляпанной скатертью, на который водрузил принесенный с собой картонный планшет, размером превышающий столешницу.
Развязав тесёмки и высвобождая свою ношу от картонных вериг, незнакомец поминутно отдергивал руки, будто обжигаясь от чего-то раскалённого, но снял-таки и благополучно отправил в угол не нужный уже планшет.
На столе осталась лежать… алтарная икона с изображением Николы Мир Ликийских чудотворца.
Пришелец давно уже растворился в надвинувшемся облаке табачного дыма, сверкнув на прощание озорными глазами из под обтрепанных полей видавшей виды необъятной шляпы. Но никто из присутствующих, занятых исключительно своими гениальными произведениями и не менее гениальными мыслями, не обращал на икону внимания.
Возможно, выходка незнакомца так бы и окончилась ничем, поскольку кто-то из классиков уже оставил, походя, на иконе кружку недопитого пива, кто-то уже об угол доски загасил папироску, но…
Но без женщины и тут не обошлось: ведь должен же кто-нибудь крутоумным и туполобным мужикам подбросить яблоко раздора.
– А-а-а-а! Глядите, гадость какая! – заверещала довольно мясистая модно раздетая корова, – кто сюда это приволок?!
Накуренный монолит атмосферы «Камня преткновения» качнулся в одну сторону, в другую… Мирный ход мирной истории был нарушен. К столику стали собираться маститые и не очень, но каждый на глубину своей масти считал возможным резюмировать происшествие.
– Да уж, кто-то нам действительно свинью подложил!
– Этого только не хватало!
– Хм… какая большая. И талантливого письма, надо сказать. Жалко, что художник свой талант использовал не по назначению.
– Какое назначение? О чем вы говорите?! Выбросить эту мазню на задний двор – и дело с концом. Там истопник определит её куда надо.
– Товарищи! Зачем истопник? Давайте лучше сами истопниками поработаем.
Давно мы наш сорокаведёрный самовар не разжигали: не пора ли почаевничать да за жисть покалякать? А из доски такая лучинушка для самовара получится – сказка!
– Виссарион, – обратился тот же голос к кому-то, теряющемуся в задних рядах, – а не порубишь ли ты, товарищ, эту доску на чурочки для самовара?
– Легко, – пробасил Виссарион и, раздвигая могучим животом маститые тушки писателей, протиснулся к столу.
Кто-то, уже воспользовавшись всеобщим отвлечением от собственных дел, привлекал всеобщее внимание к себе любимому, пересыпая речь цитатами исключительно из своего словотворчества, кто-то просто рассуждал в пространство о происшествии. А те, что пошустрее да поухватистей, тащили к камину огромный клубный самовар, вытяжная труба которого крепилась к дымоходу камина.
Экстравагантные авантажные пиитессы расставляли на сдвинутых в центре столах разнокалиберную посуду под надвигающийся чаёк и раскладывали по тарелкам тут же сочинённые бутерброды. А Виссарион и иже с ним уже суетились вокруг разгорающегося самовара, подкидывая в него чурочки ещё недавно бывшие одной целой иконой.
И скоро свежеистопленный самовар с огромным заварным чайником наверху водружен был в центре импровизированного банкетного стола. Всех присутствующих охватила необъяснимая волна экзальтации и шуточки типа: Пить, так пить! Чай, так чай! – сыпались отовсюду, сопровождаемые нервическим подхихикиванием пиитесс.
– Иконный чай, – басил Виссарион, – иконный чай! Налетай! Выпивай! Господу Богу помолимся! Вот тебе и весь аллилуй!
– А что, братцы, чаек отменный, даром, что иконный!
– Да-да, я бы сказал, даже со специфическим ароматом.
– Друзья! А у меня тут экспромт на почившего в бозе Николая-угодника.
И вдруг сквозь весь этот восторженный шум-гам-смех, словно смертельная стрела викинга, пролетел визг:
– Пожа-а-а-а-а-а-а-а-ар!..
За устоявшимся монолитом табачного дыма никто сразу и не приметил дымок, потянувшийся от невесть как загоревшихся останков иконы, брошенных возле обитой китайским шёлком деревянной перегородки, которая также вспыхнула с готовностью сухого пороха и клочки огня, точно солнечные блики перепрыгивали со стены на всё деревянное, что имелось в «Камне преткновения».
Таким же бурным огнём вспыхнувшая паника с визгом, криком, топотом бросила волну человеческих тел к двери, оказавшейся запертой. Никто почему-то даже не попытался потушить или сбить пламя, которое, как бы почувствовав свою власть над людьми, уже загудело и затрещало, завоёвывая всё новые и новые территории.
Обезумевшая толпа двуногих рыскала посреди огня, то пытаясь прорваться к окнам, забранным ажурными решётками, то снова и снова к никак не открывающейся двери.
Наконец несколько человек, ещё не совсем одуревших от воплей, дыма и пламени, выскочили в подсобку, из которой по коридору можно было выбраться на задний двор, но краска на двери в коридор подозрительно пузырилась, а из щелей валил всё тот же сиротский и торжествующий дым пожарища. Дверь вспыхнула, и ярые языки огня заплясали во всей своей необузданной красе, предвкушая близкую человеческую поживу.
У чугунной ограды «Камня преткновения» стоял давешний кожаный в своей широкополой шляпе и спокойно наблюдал бушевавший внутри пожар. А по палисаднику метался испуганный беспомощный дворник, размахивая руками и шлепая толстыми беззвучными губами, как рыбец, выброшенный на лёд.
– Не суетись, папаша! – негромко, но внятно произнес незнакомец. – На-ко лучше выпей чайку на помин души… – и к ногам оторопевшего дворника легло несколько весело звякнувших монет.
Сказка о женской арифметике
– Алё. Алё, Марина? Маринка, это я. У меня завтра день рождения, помнишь? Ага, помнишь, это и хорошо. Потому что нам обеим необходимо оторваться хоть раз в году. Ну, что ты мне морали читать начинаешь? Я могу себе сделать подарок на день рожденье или нет? Могу? Вот и славно. Обрадовала. А ты должна мне посочувствовать, как лучшая подруга. Сочувствуешь? Вот и славно. Значит, придёшь? Кого пригласила? Щас скажу. Только ты сядь, а то упадёшь. Села? Ну, слушай. Ты знаешь, что у нас на работе с мужиками проблем нет. У кого? У тебя проблемы? С мужиками? Придёшь на день рождения и у меня все проблемы порешаем. Да подожди ты, не беги впереди паровоза. Всё скажу: что было, что будет, чем сердце успокоится. В общем, так. Я пригласила тридцать два мужика. Из женщин? Нет. Никого. Только мы с тобой. Почему так мужиков много? Шутишь, Маринка! Тридцать два – это разве много? Завались? Ну, подруга, теперь понимаю, почему у тебя на мужицком фронте проблемы возникают. Ты просто их считать не умеешь. Кто, я? Как раз умею, работа такая. Поэтому сама хочу оторваться и тебя угостить. Как считать? Очень просто. Я тебе говорила, что тридцать два человека пригласила? Говорила. Теперь прикинь, что половина из приглашённых не придёт. Это точно. Как пить дать. Придут? Ну, подруга, ты точно в мужиках нихрена не разбираешься. Я тебе отвечаю: придёт только половина. Да, шестнадцать. Что, для нас двоих шестнадцати много? Ой, мать, да ты совсем с катушек съехала. Знаешь, что мужик в гостях, да ещё на дне рожденья делает? Правильно. Пьёт. Вот и считай: из шестнадцати половина ужрётся в лоскуты, и останется всего только восемь. Что? Опять много? Ну, девка, ты прям, как будто в настоящей совдеповской конюшне выросла, ничего про енто дело не знаешь. Да и сексу-то у нас в государстве никогда не существовало. Чего обижаешься? Я те правду говорю, что восемь – это только в натяг хватит. Как? А вот так вот. Ты чё думаешь, сейчас мужики нормальные? Зря так думаешь. Где нормальный мужик рос, там давно уже дуб вырос. Ага, желудёвый. Так что из этих восьми половина обязательно импотентами окажутся. Как пить дать. И что там у нас остаётся? Четверо? Как делить будем? Я думаю, по-честному. Тебе два и мне два. Что, опять много? Да ты прикинь, дурёха, вот примется тебя ублажать один. Ну, ублажит. И всё? Вспомни, что ты всё-таки женщина. А вдруг тебе ещё раз захочется? Два мужика – это как два пальца об асфальт. Только так их и считают, мужиков-то.
Записки доктора Ватманса или новые приключения Шолома Хармса
Сегодня я имею честь, господа, представить на ваш несправедливый и невзыскательный суд одну из историй, воспоминания о которой до сих пор леденят душу обитателей Баскет-Билль-Холла.
Но всё по порядку.
В тот дождливый и непредсказуемый день шёл дождь и его косые струи перечёркивали окно, выходящее на неуютную в этот час Бейкер-Юден-Стрипс.
Орлиный профиль Шолома Хармса мрачной тенью вырисовывался на фоне дождливого окна.
– На улице дождь, – невесело заключал мой друг.
Я уже привык к его неординарным и довольно любопытным умозаключениям, но, тем не менее, каждый раз они поражали меня в самое сердце своей проницательной, беспринципной и недоказуемой силой.
– Как вы догадались?! – воскликнул я.
Шолом Хармс мягко и саркастически улыбнулся в ответ на моё восклицание.
– Нет ничего легче, милый друг, – произнес он, – когда вы принесли очередную охапку дров для камина, я заметил на пятом от середины полене характерные брызги, которые могла оставить только водосточная труба в нашем дворе, так как она наполовину сломана доброжелателями из Маун-Чаун-Тауна.
– Поразительно! Но как вы успеваете замечать такие незаметности? – удивился я.
– Опыт, друг мой Ватманс, опыт и ещё раз опыт, которому надо учиться, учиться и учиться. Кстати, к нам следует посетитель, – тут он указал зажатой в руке трубкой на субъекта, тайно пробирающегося по противоположной стороне Бейкер-Юден-Стрипс.
– Таки, почему это обязательно к нам? – резонно заметил я.
– Таки потому, что в вашем замечании нет никакого резона, – парировал мой друг.
С этим было трудно поспорить и оставалось только ждать. Ждать, однако, пришлось недолго. Вскоре внизу зазвучал колокольчик, и госпожа Хадсман объявила нам о прибытии посетителя.
Но что такое посетитель, я вам скажу! Что б вы были здоровы. Ведь он же не бросил к нам свои кости, то есть не пришёл, как обычный человек, искатель личных приключений или взломщик! Сразу с порога он нас сразил фразой, достойной пера самого Фенимора!
– На улице идёт дождь, – сказал незнакомец, и лицо моего друга сделалось серым.
Надо сказать, что мой друг Шолом Хармс не любил, когда рядом оказывался кто-то умнее его. Этим самым я отнюдь не хочу сказать, что встретить кого-нибудь умнее моего друга можно даже на Привозе. Разумеется, нет и быть не может. И тем не менее. И, тем не менее, он вошёл и сказал эту историческую фразу.
– Но как вы догадались?! – по своему обыкновению вскричал я.
– Поживи, дружок, с моё, ещё и не то замечать будешь, – скромно ответил посетитель.
– Но я думаю, что вы пришли к нам с каким-то делом? – перебил его Шолом Хармс.
– И, правда! Как же я мог забыть, уважаемые россияне? – растерялся посетитель.
– Ничего, ничего. Со всяким может случиться. Итак, к делу.
– Да, да! К делу, – подхватил незнакомец. – Меня к вам, господа, привело очень странное и запутанное дело. Посреди Гринписовской трясины стоит древнее родовое имение моего хозяина: это небезызвестный Баскет-Билль-Холл. И надо сказать вам, джентльмены, что существует старая и довольно потрёпанная легенда, в которой упоминается и ваш покорный слуга. Никогда ещё ни одно литературное произведение не наводило такого ужаса на обитателей Трясины. А говорится там вот о чём.
С этими словами незнакомец достал из портфеля крокодиловой кожи берестяную грамоту и принялся читать замогильным поэтическим баритоном:
– Сколько минет веков над землёю
и в Трясине свершится злодейств —
я от вас, мой читатель, не скрою,
как не скрыть мне всех будущих действ.
В год, когда окотится собака
и корова не даст молока,
Беломор, обкурившийся мака,
снова будет валять дурака.
Рак вскричит и погонится призрак
за тенями Гринписовских тайн.
Если будет он Господом призван,
то наступит несыгранный тайм!
– А моё имя Беломор! – воскликнул наш странный посетитель. – Видите, из глубины веков настигло меня предсказание. Но, ни я, ни кто-либо ещё не обратили бы внимания на старый манускрипт, не случись с моим хозяином беда. Сегодня утром он был найден у себя в спальне с перекушенным горлом, а днём раньше бесследно исчезла моя любимая жена.
– Да, это интересная и очень запутанная история, – отметил я.
– Вы правы, доктор Ватманс, вы тысячу раз правы, – подхватил Шолом Хармс. – А есть ли ещё обитатели в Баскет-Билль-Холле?
Мистер Беломор на секунду задумался и ответил не задумываясь:
– Нет, сэр, никого нет, если не считать моей жены, которая нежно любила моего хозяина сэра Никиту и ухаживала за ним с преданностью и усердием. Она даже ласково называла хозяина Лохматым Шмелём.
– На решение этой проблемы…, – Шолом Хармс на секунду задумался. – На решение этой проблемы мне потребуется три бутылки «Жигулёвского» и три пачки моршанской махорки.
– Ну, с махоркой, мой друг, проблем не будет, – весело заметил я, – а вот, с пивом!..
– У меня! У меня есть пиво! – воскликнул наш посетитель, – У меня случайно оказалось именно три бутылки!
Беломор, безысходно вздохнув, выставил на стол пиво. И пока мой друг уничтожал махорку, запивая её доброй порцией «Жигулёвского», мы с нашим гостем резались в очко, покер и крестики нолики. Вдруг из-за пелены махорочного дыма прозвучал туманный голос моего друга:
– Есть! – сказал он. – Картина ясна!
Мы с мистером Беломором перебрались на тахту Викторианского покроя поближе к моему другу и приготовились слушать.
– Картина более-менее ясна, – начал Шолом Хармс. – Ваша жена, мистер Беломор, также как и вы, предано любила своего хозяина и предано ухаживала за ним. Вас обоих она по утрам постоянно кормила овсянкой, о чём свидетельствует ваша заляпанная манишка, мистер Беломор.
– Овсянкой, сэр, овсянкой, – подтвердил посетитель.
– Но вам давно уже осточертела овсянка, о чём свидетельствует прыщик на кончике вашего носа. И вы с сэром Никитой решили избавиться от овсянки даже ценой жизни бедной женщины.
– И они убили её! – вскричал я.
– Нет, дорогой Ватманс, всё было совсем не так, – с привычным сарказмом улыбнулся Шолом Хармс. – Они не убивали бедную женщину. Скорее всего, это она была убита ими. А потом, чтобы скрыть следы преступления, они сварили бедняжку в кастрюле с овсянкой. Получилась великолепная овсянка по-флотски, которой они накормили любимую собаку сэра Никиты. Разве могли убийцы предполагать, что собака, отведав человечьего мяса, станет людоедкой и набросится на самого хозяина? Мистеру Беломору чудом удалось избежать клыков бедного животного, о чём свидетельствуют порванные штаны и фрак нашего посетителя.
– Да, да! Вы правы! Все было именно так! – сознался преступный Беломор. Но умоляю, спасите меня от собаки!
И тут в глубине Бейкер-Юден-Стрипс раздался жуткий утробный вой, наводящий тот самый леденящий ужас.
– Боюсь, что с собакой выйдет неувязочка, – мрачно констатировал Хармс. – Она никогда не простит вам того, что вы её сделали людоедкой.
– Я на всё согласен! – вскричал Беломор. – Я буду всю оставшуюся жизнь питаться одной овсянкой и курить только Моршанскую махорку!
– Что ж, – заметил Шолом Хармс, – я вижу, вы уже довольно наказаны за своё легкомыслие. Пойду, постараюсь договориться с собакой.
С этими словами мой друг вышел из дома и вскоре косые безответственные струи дождя скрыли его в наползающем тумане.
Конец этой истории неизвестен никому, так как по возвращении мой друг отправил мистера Беломора на вечное поселение в Гринписовской Трясине, обещая, однако, всякое заступничество и поддержку в борьбе с собакой.
Но я не раз ещё слышал, что глубины Гринписовской Трясины потрясает жуткий леденящий душу вой бедного животного, которое страдает от недоедания и от тоски по человеческому обществу.







