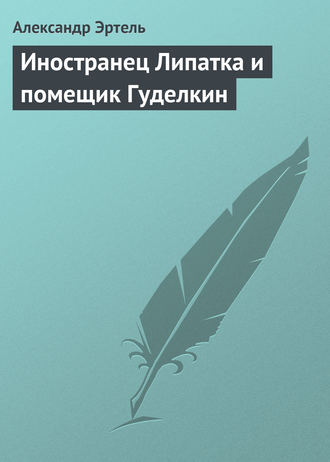
Александр Эртель
Иностранец Липатка и помещик Гуделкин
– Но трюизм ли?.. – попытался было я возразить, но Ириней был уже в полном экстазе: он отчаянно замахал руками и возвысил голос.
– И я, как чистый, как совершеннейший европеец, приветствую Липатку, кричал он, – приветствую потому, что в лице Липатки культура непосредственно соприкоснулась с народом… Купец тот же народ и посеет культурные свои свойства непременно в народе же…
– Но большого ли достоинства эти свойства?..
– О, я, конечно, вижу Липаткины недостатки, и я в свое время подавал проект… Липат односторонен, Липат позитивист, Липат прямолинеен. Я подавал проект: брать восьмилетних мальчиков и на государственный счет воспитывать их за границей: в Англии, в Германии, во Франции… Затем довершить воспитание художественной экскурсией по Италии, по музеям Дрездена, Мюнхена, Парижа, и человек, в истинном значении этого слова, готов. Человек европеец! – многозначительно воскликнул Ириней и многозначительно же поднял палец, а затем помолчал и с покорностью добавил: – но меня не послушали!
– Но это в сторону! – немного погодя с новою силой продолжал он. – Я все-таки, подобно еврею, одряхлевшему в ожидании, приветствую Липатку: он мой мессия{5}. Он провозвестник культуры на Руси, и это слишком много… Я в последние годы много думал о нашем положении. Я много думал и пришел к тому, что да, действительно мы погибаем… Но отчего погибаем, вот вопрос! – Ириней снова поднял палец.
– Отчего же? – спросил я.
– Погибаем мы от недостатка культуры-с, уважаемый мой. Наводните Россию культурой, и она спасена. По-моему, так: взять и все поколение воспитать за границей. И еще я думал устроить колонии. Среди крестьян, знаете, поселить англичан, немцев, ирландцев даже, и пускай они воздействуют. Вообразите пустыню и среди пустыни оазисы. Это, впрочем, все проекты. У меня очень много проектов…
– И вы подавали их?
– Меня не слушали. Но это ничего не значит: культура шествует! Что такое Липатка, позвольте вас спросить? Липатка – пророк. Липатка и сьют это знамение-с. Прибавьте к этому обширнейший ум, коммерческое образование… Я только теперь ведь понял, какой я в сущности пентюх… Спора нет, и моральное воздействие насаждает культуру, но путь-то этот путь медленный, быстрый же проводник культуры совсем не филантропия и не воздействие-с…
– Но что же, Ириней Маркыч?
Ириней таинственно улыбнулся.
– Предприятия, предприятия… – прошептал он, грациозно прикладывая палец к губам, но не утерпел и, серьезно сдвинув брови, добавил: – Мы заводим фабрику.
– Как фабрику?! Фабрику здесь, в Дмитряшевке?!
Он ничего не ответил. Он только с видом торжества кивнул головою и заботливо стал застегивать пуговочку правой перчатки. Вдали показался и скоро вырос перед нами чумаковский хутор.
Чумаковский хутор изобличал в хозяине и образцового дельца и крупного капиталиста. Ничто не напоминало здесь каких-либо прихотей. Ни раскрашенных яликов на пруду, ни затейливых башенок и мезонинов, ни китайских беседок и романтических гротов вы бы не встретили тут. Но зато все, что вы видели, было крепко, хорошо, пригодно для хозяйственных целей. Два гумна с бесчисленными скирдами, подобно крыльям, облегли немногочисленные постройки. На каждом из этих гумен пыхтели паровики и многосильные молотилки переполняли воздух тяжким стенанием. В длинном и превосходно выстроенном амбаре, с дверями, распахнутыми настежь, не прерывалась бесконечная вереница скрипучих возов. В стороне, под крепким и свеженьким тесовым навесом, словно артиллерийские орудия на смотру, вытянулись красивыми рядами жнейки, сеноворошилки и сеялки. Недалеко от пруда белелась, зияя редкими окнами, новая трехэтажная зерносушилка с целою системою деревянных красных труб на железной крыше. Скотный двор, – здание тоже новенькое и, по-видимому, необычайной крепости, – занимал место за сушилкой. Флигель для рабочих, баня и кухня тоже отличались и новизною и солидностью. Но особенно щеголяли этим хозяйские дома. Их было два, и отделялись они друг от друга узеньким, но чрезвычайно светлым и чистым прудом. Оба были из стройного соснового леса. Их недавно выкрашенные кровли ярко и приветливо зеленели издалека. И оба домика издали чрезвычайно походили друг на друга. Но приближаясь к ним, вы замечали различие. Один отличался целомудреннейшей первобытностью и даже не имел навеса над простыми сосновыми дверями, другой, не говоря уже о навесе, бил в глаза положительным европеизмом. На гладко отполированных дверях его сверкала медная доска с именем владельца. Из притолки скромно выглядывала перламутровая пуговочка электрического звонка. Сквозь зеркальные стекла окон прихотливо извивались ветви дорогих тропических растений и пышные гардины красиво распростирали искусно драпированные складки.
Мы подъехали к этому домику. На доске сияющие буквы вязью изображали Л. Чумаков. Двери нам отворила краснощекая горничная в шиньоне{6} и белоснежном переднике. Липатка отсутствовал: он находился на гумне. Горничная тотчас же послала за ним какого-то мальчугана в куртке и зеленых штиблетах, а нас пригласила в комнаты. Там нас встретила совсем уже подлинная цивилизация. Зал с паркетным полом и гостиная, устланная пушистым ковром яркого цвета, обильно украшалась изделиями европейской промышленности и произведениями искусства европейского. На стенах висели картины в золотых рамах, по преимуществу все жанр{7} да альпийские и рейнские пейзажи. По углам белелись статуи – Диана с гордо приподнятым ликом, стыдливая Афродита… Бронзовые фигуры рыцарей красовались на камине.
Вообще все, что ни встречало нас в апартаментах Липатки, обнаруживало в хозяине привычки просвещенного человека. Об этом вопияли и высокие зеркала в рамах самоновейшего вкуса – тонких и округлых, – и механическое венское фортепиано, и мебель… А когда мы вошли в кабинет Липатки, то изысканные привычки эти предстали пред нами и вовсе воочию. Широчайший мраморный умывальник с целой коллекцией мыла, щеточек и различных притираний; пилки, ножницы и флаконы на резном ореховом туалете; комфортабельнейшая кровать; и вместе с этим целая прорва всяческих приспособлений для письменных занятий: тут можно было писать лежа, там сидя, здесь – стоя… И все-таки вы сразу замечали, что обиталище это, столь удобное для писания, не вмещает в себе какого-либо узкого бумагомарателя. Здесь пахло практиком. Монументальный письменный стол, занявший чуть не половину Липаткиного кабинета, был завален образцами пшеницы и проса, счетами, накладными, прейскурантами, квитанциями, экземплярами «Хозяйственного строителя», и «Земледельческой газеты», приходо-расходными книгами… Чернильница изображала локомобиль, пепельница – соху, пресс-папье – мужика за плугом. Над столом в бронзовых лапах торчали телеграммы и письма из Ростова, Москвы, Петербурга, Риги, Кенигсберга и других торговых пунктов, с означением цен на хлеб и на иные продукты степного хозяйства.
С видом жестокого самодовольства водил меня Ириней по обиталищу Липатки. Каждая мелочь, имевшая здесь место, казалось, досконально была ему известна.
– Ну, как скажете: чья берлога, купеческая-с? – то и дело спрашивал он меня, самодовольно поглаживая седую бородку свою a la Henri IV[1]. И после каждого такого вопроса я, разумеется, принужден был стыдливо опускать очи мои долу.
– И это в год-с! Один только год прошел, и вы посмотрите, что здесь!.. Ведь прежде вы знали чумаковский хутор: флигель да изба да амбары… И вдруг такое, можно сказать, превращение!.. О, Европа, Европа!.. – И Гуделкин мечтательно вздыхал и, весь сияющий каким-то тихим и теплым, но чрезвычайно радостным светом, неутомимо бродил по комфортабельным комнатам.
– И всего привлекательней: все ведь это коренится на принципе! восклицал он. – Это не есть одна только дурь, одно эстетическое порывание исключительной натуры, это есть довершение цикла-с… Вот идите сюда и любуйтесь, – он подвел меня к ореховому шкафу, сквозь зеркальные стекла которого ясно блестели золотые заглавия внушительных томов: – Вот почва… Вот вам божественный Мальтус{8}, вот красноречивейший Леруа-Болье{9}, вот Гарнье{10}, Курселль-Сенель…{11} здесь обстоятельный Мак-Кулох{12}, тут серьезнейший Буханан… Это его любимейшие. Но вот и старики: Сей{13}, Смит{14}, Рикардо…{15} А тут, на нижней полке, как он говорит, для курьеза собраны: Прудон, Милль с «примечаниями»{16}, Лассаль… И вы не подумайте что-нибудь – все это проштудировано-с! Ах, как приятно иметь дело с принципиальным человеком… Или вот посмотрите сюда, – и он, подхватив меня под руку, быстро подвел к ночному столику и, опустившись на колени, в каком-то детском восторге начал показывать мне его устройство, – смотрите… Ну, не прелесть ли!.. Вот вам одна необходимейшая вещь… вот другая… третья… Что за удобство! Что за простота!.. Обратите внимание… О, Европа, батюшка… – и он даже захлебнулся от умиления.
Но Липат не появлялся, и нетерпеливый Ириней повлек меня к гумнам.
Гумна эти, как я и сказал, можно было уподобить крыльям, облегшим хутор. Подходя к тому, где находился Липатка, мы влезли на вал, высоко поднимавшийся вокруг скирдов, и остановились в восхищении… Далеко вокруг синела степь. Там и сям пестрели по ней гурты, выдвигались кусты, круглые как шапки… Хутор, брошенный среди этой бесконечной равнины, казался особенно веселым и особенно живописным. Даль замыкалась волнистыми очертаниями старых и почти уже исчезнувших курганов… И над всем этим простором, захватывающим дыхание, тихо и торжественно опрокинулось теплое, яркое небо.
Липатку мы нашли у локомобиля. Он внимательно следил за манометром и от времени до времени выпускал пар. Молотилка внушительно ревела, выбрасывая из своего замысловатого нутра непрерывную массу соломы, источая зерно, чистое и желтое, как воск, переполняя воздух пылью и мякиной. Большое колесо локомобиля важно и равномерно колыхалось. Пар свистел пронзительно и дико. Народ копошился с граблями, вилами, лопатами, мешками… Однообразный гул далеко разносился по окрестности.
Я с невольным и, признаюсь, большим любопытством осмотрел Липатку. Невозмутимый среди суеты, шума и лязга, с пышно надутыми щеками и гордо приподнятым челом, он походил на идола. В течение добрых пятнадцати минут он не сделал иного движения, как только прикасался к рукояти рычага, и не издал звука, помимо отрывочных и кратких приказаний, исполнявшихся с изумительной поспешностью. Наружностью он мало походил на россиянина. Его тучную и крепкую фигуру обтягивала засаленная и, может быть, чересчур узкая кожаная куртка, на манер тех, которые неизбежно напялены на любом машинисте из немцев; голову покрывала фуражка, опять-таки несомненного заграничного фасона: круглая, с пуговкой наверху и с огромнейшим козырьком. Сапоги до колен, панталоны в обтяжку, наподобие гусарских чикчир, и серые шведские перчатки довершали костюм. Лицо Липатки тоже носило заграничный отпечаток. В нем как-то странно соединились: английское высокомерие, французская бородка и немецкий стеклянный взгляд… Русское же происхождение отозвалось только толстым и добродушным носом, напоминавшим луковицу. А щеки казались искусственно вздутыми, так они были пухлы.







