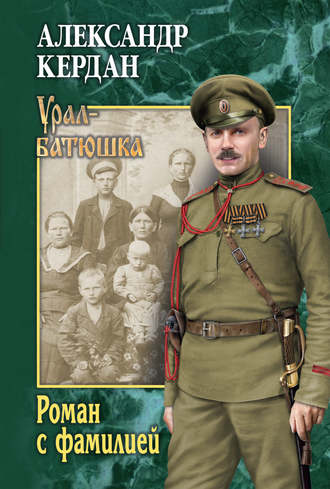
Александр Кердан
Роман с фамилией
4
Какое счастье – остаться наедине со свитком древней рукописи, где начертаны мудрые письмена! Ранним летним утром, когда неумолчно звенят в пышных кронах за окнами библиотеки суетливые птахи, или в сумрачный осенний вечер, когда, потрескивая, сгорает масло в луцерне – лампе из терракоты, и пламя зыбко колышется на сквозняках, неровно освещая пергамент, нет ничего лучшего, чем чтение…
В жаркий полдень и в пору дождей, в январские иды и в майские календы – словом, в любое время года происходит этот незримый разговор с умнейшими людьми прошлого или с талантливыми современниками, сумевшими принять творческий дар богов и прикоснуться к вечности…
Следуя мыслью за великими мудрецами, я забывал о времени, ощущая себя снова юношей, постигающим мир, беспечным и счастливым. Это давало мне такое чувство свободы, какое я не испытывал, будучи на самом деле свободным, знатным и богатым… Как тут не вспомнить любимого Агазоном Эпикура, утверждавшего, что довольство своим и есть величайшее из всех земных богатств…
Между тем жизнь за стенами библиотеки шла своим чередом.
Победителями вернулись из Испании Август и Тиберий. Вскоре неожиданно умер муж Юлии Марк Клавдий Марцелл, так и не успев сделать свою юную жену матерью…
Когда в 731 году от основания Рима в городе начался голод, стали распространяться слухи, будто неурожай и сопутствующее ему сильное наводнение ниспосланы богами из-за того, что Август оставил должность консула. Испуганные горожане стали массово просить Августа принять должность обратно и совместить её с полномочиями диктатора, отменёнными после убийства Гая Юлия Цезаря.
Особо горячие сторонники Августа предложили ему стать пожизненным консулом и даже добились, чтобы в Сенате между двумя курульными креслами правящих консулов для Цезаря установили третье, специальное кресло, больше похожее на царский трон. Наконец, Августу доверили право помилования, лишив римлян, осуждённых судом, возможности испрашивать его у народного собрания…
Но все эти знаки практически императорской власти, равно как и умело подогреваемые сподвижниками всплески народной любви не смогли убаюкать главную тревогу за будущее. У Цезаря по-прежнему не было прямых наследников. Их могла дать только дочь Юлия.
В очередной раз, не спросив согласия, венценосный отец через год после смерти Марцелла выдал Юлию замуж за Марка Агриппу, который уже дважды попадал в ловушку Гименея и к тому же был старше Юлии на четверть века.
Последние несколько лет Агриппа занимал пост наместника в Сирии. Своей почётной ссылкой он был обязан хитроумным интригам Ливии. Она всегда опасалась сильного и прямодушного полководца, чья слава затмевала скромные воинские подвиги её мужа, а звание самого давнего и преданного друга Августа давало возможность прямо излагать своё мнение. Удалив Агриппу из Рима, Ливия минимизировала его влияние, способное соперничать с её собственным.
Впрочем, охлаждение между старыми друзьями оказалось недолгим. А женитьба Агриппы на дочери Августа сводила все прежние усилия Ливии к нулю.
Ливия срочно предприняла встречный «манёвр» – уговорила Августа устроить ещё один брак, и вскоре глашатаи с ростров Форума объявили о свадьбе Тиберия и дочери Агриппы Випсании.
Однажды Ливия приказала мне явиться к ней.
– Хочу, чтобы рядом с Тиберием всегда находился человек рассудительный. Таким я полагаю тебя… – без всяких предисловий заявила она.
Прочитав в моих глазах немой вопрос, пояснила:
– Ты больше не раб Августа. Ввиду предстоящего бракосочетания моего сына Август подарил тебя Тиберию…
– Мне идти в дом моего нового господина? – поинтересовался я, зная, что Ливия купила для Тиберия дом на Палатине. Скромный по сравнению с хоромами отчима, но вполне изящный на вид, этот дом располагался неподалёку от дворца Августа, между храмом Великой матери и Форумом.
– Оставайся пока в библиотеке! – приказала она. – Если ты потребуешься моему сыну, тебя сразу найдут…
От Ливии я вышел в некотором недоумении: зачем нужно передавать меня Тиберию, если я сам и жизнь моя и так всецело принадлежат семье Цезаря. И не важно, кто мой хозяин. Ибо, сменив одного на другого, я всё так же не принадлежу самому себе. И это угнетало меня.
Правда, рабство моё вовсе не было похоже на горькую участь многих десятков и сотен тысяч несчастных, закованных в цепи, истязаемых плетьми и палками на каменоломнях, в полях и на мельницах, подобных мельнице Вентидия Бассса. А доля изнурённых гребцов на галерах или гибельная, готовая каждый час оборваться судьба гладиаторов на аренах и ристалищах…
В каких же райских условиях по сравнению со всеми страждущими и истязаемыми я жил. Имел крышу над головой и вполне сносную пищу, обладал относительной свободой передвижения, занимался хотя и подневольным, но уже ставшим для меня родным делом: составлял каталоги, разбирал и приводил в порядок пергаменты, переписывал рукописи, постигал вековую мудрость, пытаясь сохранить её для тех, кто придёт в этот мир после нас…
Изредка ко мне обращались мои бывшие ученики или их друзья и знакомые. Молодые аристократы присылали раба с запиской, в которой требовали подыскать цитату для речи в Сенате или в суде, найти поэтический образец для любовного послания. Мне не составляло труда сделать это. Отыскав нужную цитату, я заносил её на восковую табличку, и посыльный снова оставлял меня наедине с драгоценными рукописями.
Череду однообразных, но оттого не менее насыщенных дней прерывали редкие приходы в библиотеку Талла.
Август не так давно даровал ему свободу, римское гражданство и назначил заведовать своей канцелярией вместо Пола, которого окончательно удалил от себя и направил управляющим в одно из многочисленных загородных имений.
Талл ужасно гордился своим новым положением. Нарочито выставляя вперёд палец с подаренным принцепсом серебряным перстнем, он то и дело доставал судариум, похожий на тот, что был у Пола, и осторожно прикладывал его ко лбу с залысинами, к округлившимся щекам. Округлился не только сам Талл, но и его жесты. Речь стала вычурной и напыщенной.
Цель его визитов довольно долго оставалась для меня тайной. Приходил Талл в библиотеку просто поболтать, как будто ни о чём. Он вроде бы и не шпионил за мной, и не делал гнусных намёков, как Пол.
Догадка пришла неожиданно. Возможно, Таллу нужно было продемонстрировать своё превосходство над кем-то из его бывшего окружения, не опасаясь при этом подвоха или конкуренции.
Я со скрытой иронией наблюдал за метаморфозами былого тихони и молчуна Талла, но терпеливо выслушивал его рассказы о происходящем в окружении принцепса. Политические новости и дворцовые сплетни оказались не только довольно занятными, но и полезными.
Конечно, больше Талл говорил на темы отвлечённые и бытовые: рассуждал о еде, одежде, пересказывал анекдоты из жизни высшей знати…
– На свадьбе у благородного Тиберия и прекрасной Випсании, где мне довелось побывать, – хвастался он, давая понять, что мне такая высокая честь и не снилась, – пир был такой, каких я ещё не видал. А ты знаешь, видеть мне довелось немало…
Я, сдерживая ироническую улыбку, кивнул.
Талл принялся описывать пиршество, причмокивая от удовольствия:
– На первое подавали кабана из Лукки, приготовленного в рыбном рассоле, с сельдереем, острой репой, редькой и латуком. Всё это подавалось в блестящих чашах и на таких же блестящих подносах. В дивных серебряных кувшинах разносили косское вино. Я и сейчас ощущаю незабываемый вкус. К тому же каждый из пирующих получил в подарок по серебряному кубку с инкрустацией на память о столь значимом событии… – Талл перевёл дыхание и продолжил: – А затем рабы, один прекраснее другого, протёрли столы пурпурными полотенцами, принесли запечённых перепелов и рыб, блюда с раками и устрицами. К устрицам подавалось албанское вино… Это было неповторимо, я не видел ничего подобного! До сих пор, когда я вспоминаю об этом, у меня желудок начинает ёкать… – похвастался он и спросил: – Ты когда-нибудь в своей Парфии ел мурену, сваренную в соусе из креветок, гиберской рыбы и хиосского вина? А что ты скажешь о жареном журавле или печени жирного гуся, откормленного отборными фигами?
Я не успевал отвечать на его вопросы. Талл продолжал сыпать гастрономическими подробностями, исторгая их из себя как из рога изобилия:
– Ну как я могу забыть великолепную заячью лопатку в белом соусе или запечённых диких голубей, приготовленных без гузок в соке морских раковин? Даже блистательный Меценат, который сам славится отменными пирами, не удержался от похвалы этому празднику чревоугодия… А потом нас ублажали музыканты из школы Тигеллия Гермогена и пели гетеры, подобные мифическим сиренам… О, как бесподобно звучали флейты, лиры, кифары и самбуки, как сладко вторили им голоса жриц любви! – Талл, приняв позу трагика, запел визжащим фальцетом:
Увенчай своё тело цветами и майораном;
Возьми фламеум, приди сюда, приветливое божество,
Приди в жёлтой сандалии на белоснежной ноге.
Увлечённый веселием, присоедини свой голос к нашей песне!
Гимен, о Гименей, Гимен, явись, Гименей!
Своей лёгкой стопой ударь о землю,
Взволнуй своей рукой пламя горящей сосны!
Призови в жилище ту, что должна здесь царить.
Пусть она возгорится желанием к своему молодому мужу,
Пусть любовь увлечёт её душу,
Пусть обовьёт его она, как плющ обвивает вяз…
Гимен, о Гименей, Гимен, явись, Гименей!..
Он пел так фальшиво и так комично корчил при этом гримасы, что я не выдержал и расхохотался. Но, упоённый собственным пением и сладкими воспоминаниями о весёлой свадьбе, Талл воспринял мой смех как зрительскую овацию и, едва закончив куплет, продолжал без всяких пауз:
– Всем гостям особенно понравились сцены из супружеской жизни, которые представляли любимые мимы Августа: Пилад из Киликии и Батилл из Александрии… Они так виртуозно кувыркались, изображая любовные утехи, что большинство присутствующих, не вставая с ложа, взялись повторять их со своими соседями…
Я поморщился и попытался прервать поток его красноречия:
– Подобные нравы не вызывают во мне восторга…
Он произнёс назидательно:
– Ты не понимаешь! Это высшая свобода, всеобщее братство…
– На моей родине это называют по-другому… И я никогда…
– О, весьма кстати ты вспомнил о своем отечестве… Ты знаешь, из бесед моих знатных соседей по пиршественному столу я узнал одну новость. Важную для тебя…
– Неужели всем рабам даруют свободу? – усмехнулся я.
Талл обиженно поджал губы и со значением произнёс:
– Август скоро двинется на Восток. В поход он берёт с собой благородного Тиберия, твоего господина.
– Ну и что?
– Ты не понимаешь, – рассердился Талл. – Я абсолютно уверен, что тебе придётся сопровождать Тиберия.
– Да он ни разу не заговорил со мной после того, как стал моим хозяином! Зачем ему я вдруг понадоблюсь, тем более в походе?
Талл окинул меня снисходительным взглядом:
– Да потому, что цель этого похода – твоя Парфия…
5
В ночь после разговора с Таллом я не мог уснуть до рассвета. Известие о скором походе Августа против узурпатора Фраата не давало мне покоя.
Если боги будут благосклонны, думал я, то скоро отправлюсь на родину, а узурпатор Фраат понесёт заслуженное наказание…
Правда, Фраату и так в последнее время пришлось несладко: несколько лет назад его сверг новый узурпатор – Тиридат II, тот самый, что сумел победить Марка Антония во время парфянского похода. Тиридат сразу же попытался установить добрые отношения с Августом и даже отчеканил собственную монету, где под его профилем демонстративно значилось: «Друг римлян». Но римляне заключать с ним союз не спешили. Это приободрило Фраата. Он собрал остатки войска и, заручившись поддержкой саков, вступил с Тиридатом в войну за возвращение трона. В открытом сражении Тиридат потерпел поражение и бежал, но при этом сумел похитить у Фраата сына – Фраата-младшего и теперь снова торговался с Римом, моля о помощи в борьбе с Фраатом, а в обмен обещал передать Фраата-младшего в руки Августа.
Во мне не было ни толики сочувствия к узурпатору Фраату, и желание отомстить ему ничуть не притупилось, но я искренне жалел малолетнего царевича, ставшего разменной монетой во взрослых играх. Судьба его чем-то напоминала мою собственную…
Я переживал, как встретит меня родина, сама память о которой за прошедшее время стала призрачной, как мираж в сирийской пустыне…
Суровой реальностью представлялась мне грядущая битва римлян с парфянами. Даже сражаясь под стягами Фраата, парфяне всё же мои соотечественники, и над ними на древке всё ещё герб моей родины – золотой орёл с расправленными крыльями, держащий в клюве поверженную змею…
Пресмыкающейся тварью ощущал я себя этой ночью, не представляя, как вынести новое испытание – взирать на сражение с вражеской стороны, не в силах помочь своим землякам…
Эти мысли, перехлёстывая одна другую, не давали покоя, заставляли, ворочаясь на жестком ложе, снова и снова возвращаться к давно прошедшим событиям и, может быть, впервые за долгие годы пытаться предугадать будущее.
Когда же при брезжущем утреннем свете бог сна Гипнос всё-таки овладел мной, приснился мне отец – фратарак Сасан.
Подобно самому Морфею – сыну Гипноса, отец предстал в чёрном кафтане с рассеянными по нему золотистыми звёздами, в руках он держал кубок с маковым соком, из которого дал мне отхлебнуть пьянящей жидкости. Он взял меня за руку и повёл через ворота из слоновой кости к сияющей льдом горной вершине. Я догадался, что там, наверху, среди вечных льдов, дворец бога-отца Ахурамазды, где он обитает со своей женой и матерью всего сущего – богиней-девственницей Анахитой и богом-сыном Митрой, особенно почитаемым у нас в Парфии.
Мы шли по равнине, похожей на ту, по которой скакали когда-то с отцом на наших такал-теке. Но скоро дорога сделалась круче, каменистее, а камни под нашими ногами – острее и неустойчивей. Отец вдруг отпустил мою руку и быстро пошёл вперёд. Он шагал так широко и стремительно, что, как ни старался я поспевать за ним, стал всё больше отставать. Между тем широкая горная дорога превратилась в узкую тропу, а после вовсе пропала среди нагромождения огромных валунов. Отец двигался, уже почти не касаясь их ногами, перелетая с валуна на валун. Наконец путь нам преградила отвесная скала, вершину которой окутывали густые свинцовые облака. Отец стал карабкаться наверх по её гладкой поверхности, извиваясь всем телом, юрко, словно ящерица. Я понял, что не смогу забраться вслед за ним, и закричал: «Отец, дай мне руку!» Он обернулся и, отрицательно покачав головой, продолжил подъём. «Не оставляй меня здесь, отец!» – умолял я, но он больше не оборачивался и скрылся в облачной хмари…
Я проснулся с дурными предчувствиями. Сон всё не выходил у меня из головы: «Почему отец не дал мне руку? Почему оставил одного?»
Около полудня пришёл раб с приказом от Тиберия немедленно собираться в путь. Прогноз опытного царедворца Талла оказался верным – моему юному господину потребовался знаток языков, и он наконец вспомнил обо мне.
Мы отправлялись на Восток. Проныра Талл оказался не прав только в одном – целью похода Августа была не столица Парфии – Ктесифон, а далёкие армянские провинции. Они уже много лет принадлежали Фраату и управлялись его ставленниками. Именно в эти провинции Август и повёл свои легионы.
…Путь навстречу Солнцу показался мне куда короче, чем тот, по которому меня, пленённого, везли в Рим. Может быть, потому, что теперь я не был закованным в цепи и находился не в тёмном, пахнущем крысами и нечистотами трюме галеры, а ехал на двуколке в обозе растянувшегося на многие лиги римского войска.
Я мог видеть всё, что меня окружает, и это вызвало во мне смешанные чувства: восхищения и осознания подлинного величия и могущества государства моих врагов.
Все дороги ведут в Рим. Но сеть дорог не только вела в Вечный город, но и расходилась от него по всей Италии и далеко за её пределы – по завоёванным провинциям. Римские дороги строились добротно, со знанием дела: покатые, вымощенные круглым, крупным булыжником, они имели парапеты и канавы для стоков дождевой воды. Вдоль обочин высились милевые вехи – цилиндрические каменные столбы чуть выше человеческого роста с выбитыми на них именами строителей и расстоянием до ближайшего города. По мере удаления от столицы дороги хотя и становились уже, но даже самая заурядная из них имела ширину не менее двенадцати-пятнадцати локтей, что позволяло свободно и, главное, быстро двигаться по ней римским когортам, всадникам и военным колесницам.
Арочные мосты и тоннели, пробитые в скалах, многоступенчатые акведуки по обеим сторонам, постоялые дворы, кузницы, конюшни для смены лошадей… Всё это действовало безотказно, как единый механизм: пылали горны, звучали удары молотов о наковальни, дымили харчевни, ржали лошади, обгоняя войско, скакали гонцы…
Поневоле приходили в голову сравнения: в Парфии и в Сирии таких качественных дорог видеть мне не доводилось… И ещё одно странное чувство гнездилось во мне. Я всё чаще ловил себя на мысли, что уже не воспринимаю увиденное как нечто инородное, враждебное. Наверное, я уже стал частью Рима, хотя до сих пор не решался в этом себе признаться…
Легионы Августа скорым, походным шагом прошли на север Италии, передвигаясь сначала по Фламиевой дороге, где свернули на восток, на дорогу, которую, если верить надписи на милевом столбе, полтора века назад построил проконсул Гай Эгнатий.
Эгнатиева дорога предназначалась для связи с восточными провинциями и вела через Илирик, Македонию, Фракию до города Византия, что стоит у проливов, соединяющих Понт Эвксинский с Эгейским морем.
Трудно описать горные красоты, окружавшие нас в пути. Снежные вершины, чистые горные реки и водопады, долины, поросшие зелёным кустарником и масленичными деревьями…
И всё-таки не эти красоты врезались мне в память.
Во время перехода через Македонию случились два события, наполненные скорее мистическим, нежели реальным содержанием.
В Илирии, близ Патавия, Тиберий, взяв меня с собой как знатока греческого, посетил оракул Гериона и приказал тамошним жрецам вынуть для него жребий. По жребию Тиберию выпало бросить в источник Апон золотые игральные кости, число очков которых будет говорить о будущей судьбе Тиберия. Кости показали наибольшее число из возможных. Оракул объявил, а я перевёл его слова, что Тиберия ждёт блестящее будущее и верховная власть в Риме.
Ещё одно предзнаменование случилось близ Филипп – на алтарях, поставленных когда-то победоносным Цезарем, неожиданно вспыхнуло пламя именно в тот момент, когда мы с Тиберием проезжали мимо. И это тоже было расценено как свидетельство скорого возвышения Тиберия.
Конечно, обо всём этом немедленно донесли Августу. Он, по словам Талла, возглавлявшего походную канцелярию, не сумел скрыть своё раздражение и недовольство, посчитав все подобные прогнозы злостным потворством неуёмным властным амбициям пасынка.
На ближайшей стоянке, поздней ночью, когда шум в лагере уже стих, меня вызвали в палатку Тиберия.
У входа стояли хорошо знакомые мне легионеры из личной охраны принцепса. Это свидетельствовало о том, что и Август находится здесь.
Я откинул полог и вошел.
Август и Тиберий сидели на низких походных креслах у такого же низкого стола, уставленного дорожной снедью.
В ответ на моё приветствие Август поставил на стол кубок с вином и устремил на меня проницательный взор.
– Что ты слышал о Спасителе человечества, учитель? – назвал меня так, будто я продолжаю учить его детей.
Я перевёл взгляд на Тиберия, словно он мог подсказать мне верный ответ. Тиберий сидел со свойственным ему мрачным выражением, мерно жевал кусок мяса. Он даже не взглянул на меня.
Август терпеливо ждал.
– Цезарь, ещё за полвека до падения Трои эритрейская сивилла Самия предсказала появление Спасителя… – нашёл я нужные слова. – Она утверждала, что это будет сын бога, рождённый земной женщиной-девственницей…
Август едва заметно улыбнулся:
– Ты же учёный человек. Ответь, когда придёт этот Спаситель?
Я смутился:
– Я – обычный смертный. Что могу сказать тебе о воле богов, богоподобный Цезарь? Я не оракул и не пифия. Даже мудрый Сократ не ответил бы на твой вопрос. Мне же дано знать только то, что я знаю, а посему остаётся смиренно наблюдать за тем, как исполняются пророчества и воля богов…
– Значит, ты не думаешь, что Тиберий – предсказанный Спаситель человечества? – вдруг вонзил в меня острый, как стилет, вопрос Август.
Я оцепенел, боясь проронить хоть слово, ценой которому могла быть моя жизнь.
– Тиберий – мой господин. Это всё, что мне положено знать, – промямлил я.
Август сухо рассмеялся:
– Credo, quia absurdum est – верю, потому что нелепо… Мне нравится твоя преданность… – сказал он. – Что ж, если промысел богов тебе не по зубам, учитель, тогда поговорим о земном. Например, о твоём царе Фраате…
– Он не мой царь… – Я тут же прикусил язык – перебивать Цезаря мог только тот, кто не дорожил своей жизнью.
– Итак, поговорим о твоём царе Фраате. Скажи мне, пойдёт ли он на переговоры со мной, зная, что в моих руках его сын и его злейший враг?
– Родство для того, кого ты называешь царём Парфии, ничего не значит, великий Цезарь. Фраат любит только власть. Ради власти он однажды без сожаления убил отца и всех своих родных…
Я мог бы рассказать Августу, что и отец самого Фраата IV – мой повелитель Ород II вступил на трон, не дождавшись естественной кончины своего родителя. Вместе со своим братом Митридатом он тоже совершил отцеубийство и, по сути, тоже являлся узурпатором, хотя это и старательно скрывалось от нас, его подданных… Как именно пришёл к трону почитаемый моим отцом Ород, я узнал совсем недавно из свитка, поступившего в библиотеку Августа. Да, наверное, я должен был сообщить Августу об этом, но промолчал.
Сказал только то, что он хотел услышать:
– Фраат ради сохранения своего владычества пойдёт на любые преступления и подпишет договор даже с самим духом зла Ахриманом, да не будет он помянут ночью…
– Что ж, – удовлетворённо произнёс Август, – значит, Фраат – это как раз тот, с кем можно договориться. Ступай, – отпустил он меня.
Я ещё раз посмотрел на мрачного Тиберия, так за всё время и не проронившего ни слова, и, поклонившись, вышел из палатки.






