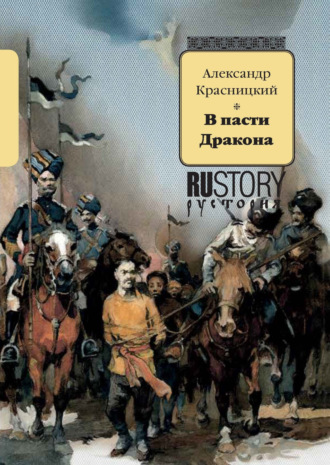
Александр Красницкий
В пасти дракона
– Видишь ли, милая девушка, – заговорил он, – чтоб я мог отдать приказание этому напугавшему тебя казаку, мы должны догнать его…
– Так пойдём же и догоним его!
– Но я не знаю, куда он пошёл…
– Он пошёл к нам… в фанзу моего отца…
– Тогда, пожалуй, поспешим… Но объясни, в чём дело?
– Мой старый отец… умрёт… убьёт…
Шатов так и вспыхнул.
– Как? Русский солдат сделает это? – воскликнул он. – Не может этого быть!
Уинг-Ти сообразила, что она сказала лишнее, и смолкла.
– Я не верю тебе: русский солдат – не зверь и не пойдёт так спокойно на убийство, как шёл этот казак. Но чтобы успокоить тебя, я пойду. Веди меня!
Голос его звучал приказанием. Девушка оробела ещё более. Она не посмела ослушаться и покорно пошла вперёд, показывая Шатову дорогу к своей фанзе.
Николай Иванович решил пожертвовать получасом своего времени. Он чувствовал в этом приключении какую-то необъяснимую ещё загадку. Ни одно мгновение он не думал, чтобы тут таилась хоть тень преступления. В Порт-Артуре он был совсем новым человеком.
Не больше месяца, как прибыл он сюда, намереваясь при первой возможности отпроситься в отпуск и побывать в Пекине, куда его влекли не дела службы, а сердце… Там со своим семейством жила невеста молодого поручика, и чтобы быть поближе к ней, Шатов перевёлся в Порт-Артур из одного из сибирских полков.
Однако как ни мало времени он был здесь, а уже успел приглядеться к установившимся взаимоотношениям русских солдат и китайского населения городка. Люди жили между собой настолько дружно, что даже в праздник, когда кое-кто из солдат совершал слишком усердное возлияние Бахусу, особенно сильных столкновений не бывало. Казаки же из приамурских станиц не могли даже считаться новичками в близких сношениях с китайцами. В своих станицах по берегу Амура они постоянно сталкивались с ними, и, таким образом, здесь, в этом новом русском приобретении, знакомство было уже далеко не новым, так как «длиннокосые» никому из них в диковинку не были.
– Что же, далеко твой дом? – спросил Уинг-Ти Шатов, чтобы прервать скучное молчание, начинавшее томить его.
– Сейчас, вот тут, – ответила та и опять смолкла.
Теперь она поняла, что навела на свою семью серьёзную беду. Если посланник Дракона будет взят из их фанзы, то пострадает от этого её отец, которого обвинят в недонесении о появлении подстрекателя. Она же мало того, что навела на него казака, теперь вела ещё офицера, который в её мнении был всесилен.
В нескольких шагах от своей фанзы Уинг-Ти остановилась как вкопанная. Она так и замерла вся… Из фанзы в тишине вечера прямо к ней доносились шум отчаянной борьбы и громкий голос, по которому она узнала, что Зинченко уже там.
– Нет, врёшь! Раз обойти себя дал, а теперь не попадусь, – кричал казак, – я тебе покажу кузькину мать! Я те дам с ножом на живого человека лезть… Врёшь, не уйдёшь теперь…
Шатов сделал быстрое движение вперёд и в два прыжка очутился на пороге фанзы.
При тусклом свете фонаря глазам его представилось следующее. На земляном полу у самого кана дюжий казак барахтался с тщедушным китайцем. Но тщедушным тот казался только с виду. Китаец, по-видимому, мало уступал в физической силе молодцу-сибиряку.
Зинченко, не на шутку встревоженный непонятными словами Уинг-Ти, одним духом домчался до фанзы её отца. Бесцеремонно войдя внутрь жилища, он прошёл прямо в семейную комнату и едва перешагнул порог её, как увидел перед собой запечатлевшуюся в его памяти физиономию китайца, которого он задержал на Мандаринской дороге.
Может быть, всё бы обошлось для Синь-Хо вполне благополучно, но на этот раз он не выдержал характера. Появление казака было слишком неожиданно. Первой мыслью посланника Дракона было то, что Юнь-Ань-О предал его.
– Презренный раб! – крикнул он. – Ты осмелился выдать меня в руки врагов!.. Горе тебе! Я не останусь неотмщённым!
А Зинченко в это время без особенно дурных намерений, даже и не думая снова задерживать этого китайца, шагнул вперёд, протягивая, в виде особой любезности, как старому знакомому, Синь-Хо руки.
То, что произошло затем, в первое мгновение ошеломило казака. Китаец присел на корточки и, словно оттолкнутый пружиной, прыгнул на него с обнажённым ножом в руке.
Чувство самосохранения, независимо от всякого соображения, заставило Зинченко податься в сторону. Это спасло его. Нож Синь-Хо, направленный прямо в сердце, соскользнул, разорвал мундир и только слегка оцарапал кожу на боку. Сам же убийца, не встретив в своём прыжке конечной точки опоры, брякнулся об пол, и через мгновение Зинченко уже облапил сто.
Но взять посланника Дракона оказалось не так-то легко. В его тщедушном теле оказалась громадная физическая сила. Если он и не был сильнее казака, то, во всяком случае, и не уступал ему. Напрасно Зинченко сдавливал его в своих медвежьих объятиях. Синь-Хо вывёртывался из них, и борющиеся подкатывались всё ближе и ближе к дверям.
– Я те, брат, покажу, как казённые мундиры рвать! – хрипел казак. – Ежели ты мирной, то какое право имеешь на христолюбивого воина с ножом кидаться! Нет, брат, пойдём к начальству!
Он уже изловчился и крепко держал китайца, когда раздался оклик:
– Стой! Что здесь такое?
Зинченко, услыхав эти слова, мгновенно бросил пленника, оглянулся и, видя офицера, быстро вскочил на ноги и вытянулся во фронт.
– Что такое? В чём тут дело? – повторил Шатов, делая шаг вперёд.
Но прежде чем Зинченко успел ответить, Синь-Хо ловким прыжком очутился у дверей, оттолкнул с силой в сторону Шатова и выбежал из фанзы.
Всё это было делом нескольких мгновений. Зинченко двинулся было вперёд, но увидев, что офицер пошатнулся, бросился к нему на помощь.
– Ваше благородие! Не убил ли он вас? – заботливо спрашивал он, стараясь подхватить Шатова под руку.
– Нет, ничего!.. Спасибо! – отвечал тот, придя в себя. – Что здесь такое?
– Честь имею доложить… Юнанка! Стул господину поручику! Извольте присесть… Честь имею доложить, – начал казак. – Как я был на представлении их беса, то прибежала ко мне вот евойна дочка и говорит: «Беги, все бегите, всех вас убьют!». Я и испугался. Думаю, что за оказия? И так как этого длиннокосого знаю, то побежал к нему осведомиться, в чём дело! А тут – подозрительная личность. Извольте посмотреть, мундир располосовал, а мундир-то почти новёхонек.
– Да за что же? – с недоверием спросил Шатов. – Ведь так зря никто с ножом бросаться не станет! Вероятно, ты обидел этого китайца?
– Ни в жизнь, ваш-бродь! Действительно, бывши в разъезде, мы с Васюхновым задержали его было подле их моленной на Мандаринской дороге, да потом отпустили, потому никаких признаков к задержанию не было, а кто он такой – извольте спросить вот у этого самого Юнанки.
Юнь-Ань-О, дрожавший всеми членами своего старого тела, кинулся на колени перед Шатовым.
– Встань, встань! Зачем это? – воскликнул тот. – Ты лучше скажи мне, обидел тебя этот казак, да?
– Нет, капитан, нет! – только и смог пролепетать тот. – Он меня не обидел…
– Тогда, может быть, он обидел твоего гостя? Ты говори, не бойся…
– И его не обижал…
– Тогда я не понимаю, в чём дело? Что же у вас такое случилось? За что же твой гость хотел ударить его ножом?
– Я… я не знаю…
– Решительно понять ничего нельзя… Твоя дочь встретила меня, перепуганная, плачущая; она просила меня вернуть вот его, не допускать в твой дом; она говорила, и я мог понять, что тебя собираются убить…
– Нет, нет, – твердил одно и то же Юнь-Ань-О.
– Ну, тогда я уже не знаю! Ты, – обратился Шатов к казаку. – Доложи о случившемся с тобою по начальству, а я подтвержу твоё донесение.
– Слушаю, ваш-бродь! Дозвольте просить.
– Что ещё?
– Прикажите вот этому самому Юнанке отдать грамотку, которую он от меня взял.
– Какую грамотку?
– Китайскую, ваш-бродь. Надо её по начальству представить, потому что, видимо, здесь дело нечисто.
– Ты слышишь? – взглянул Шагов на Юнь-Ань-О. – Он говорит, что ты у него что-то взял.
Старик так и затрясся.
– Нет, нет! – как эхо, повторял он.
– Тогда, ваш-бродь, дозвольте его в полицию отвести. Дружба – дружбой, а служба службой!.. Он, как грамотку брал от меня, весь позеленел ажно… Видится, там что-то неладное прописано.
– А ты сам её где взял?
– В моленной ихней на дороге. Думал в станицу послать, братниным ребятам позабавиться. А теперь вижу, дело нечисто. Добром, Юнанка, отдавай, не то сволоку ведь!
Юнь-Ань-О понял, что отпирательство и сопротивление ни к чему не приведут. Дрожащими руками достал он из-за пазухи послание Дракона и передал Зинченко. При этом лицо старика выражало такое отчаяние, что и Шатову, и казаку стало его жаль.
– Она самая! – воскликнул Зинченко. – Да ты, брат, не рюмься! Ежели тут ничего нет, так я тебе завтра же её назад принесу… Владей на здоровье! Мне ведь этого добра не жалко!
Шатов между тем поднялся со стула.
– Прощай, старик, – сказал он. – Я пришёл к тебе по зову твоей дочери, желая помочь. Ты, очевидно, не хочешь говорить, в чём дело, мне же кажется, что во всём этом и в твоём поведении также кроется какая-то загадка. Конечно, всё это не замедлит разъясниться, но для тебя было бы лучше, если бы ты открыл правду сам. Не хочешь? Как хочешь – это твоё дело! Где твоя дочь, позвавшая меня?
Уинг-Ти нигде не было видно. Бедная девушка убежала обратно на базарную площадь – разыскивать братьев.
– Так смотри же! – снова приказал Шатов казаку. – Немедленно иди и доложи обо всём… Очень может быть, тут есть что-либо такое, что не терпит отлагательств.
– Слушаюсь, ваш-бродь! Будет исполнено!
Зинченко проводил офицера и пошёл с докладом. Через четверть часа Шатов был уже у себя.
Он не думал, чтобы всё происшедшее могло быть чем-либо серьёзным. Напротив того, Николай Иванович был склонен видеть в этом любовную подкладку. Почему-то ему показалось, что подозрительный китаец – жених хорошенькой Уинг-Ти, и увидав казака, заподозрил в нём соперника и кинулся в порыве ревности с ножом.
Вообще влюблённые способны везде и всюду причиною всех совершающихся событий видеть одну только любовь… Николай же Иванович переживал самую хорошую пору любви. Хотя и теперь его отделяли от любимого существа не только суша, но и воды Печилийского залива, но его невеста в мечтах, в сновидениях всегда была с ним… Засыпая в эту ночь, он видел во сне Пекин и свою ненаглядную Лену…
Страшный шум, свистки, барабанный бой прервали сновидения молодого человека. С усилием раскрыв глаза, он взглянул в окно. Всё небо было освещено ярко-багровым заревом недалёкого пожара.
6. На кратере вулкана
Влюблённому поручику Пекин в сновидениях представлялся каким-то дивным уголком земного рая… Пожалуй, что этот клочок земли и мог бы быть таковым, если бы его, как и всё на земле, не портили люди.
Столица Поднебесной империи лежит на равнине так, что Пекин появляется перед глазами путешественника только тогда, когда он приблизится к самым стенам этого своеобразного города. Впечатление, безусловно, величественное, получается только тогда, когда путник, пройдя через узенькую калитку сбоку, вступает в сам город и направляется к южным воротам в стене, окружающей Маньчжурский (Татарский) город. Впечатление на первых порах получается грандиозное. Слева за рвом открывается вид на внешний Китайский город, направо поднимается мощная, без малого в шесть саженей, стена, словно выросшая из непроходимых песков. Стена эта такой ширины, что по ней, точно по стене Древних Вавилона или Ниневии, могли бы свободно разъехаться, не задевая друг друга, пять или шесть древних колесниц, вполне готовых к бою… Достаточно сказать, что толщина стен достигает пяти с лишком саженей!..
Татарский город есть столица Китая в том смысле, как принято понимать это слово, хотя, собственно говоря, весь Пекин есть соединение вместе двух разных городов. После покорения страны царствующей династией маньчжуры, монголы и китайцы были разделены на восемь знамён, или полков. Маньчжуры, как первенствующее племя, составляли войско и селились вокруг дворцов своих принцев и князей, а купцы и вообще простой народ были выселены в особые кварталы, отгороженные от Маньчжурского города каменной стеной. Так создались все главнейшие города Китая. В этой обособленности одного племени от другого сказывалось недоверие завоевателя к побеждённым и желание путём вооружённой силы постоянно держать их в своей власти.
Внутри Маньчжурского города находится Императорский город, обособленный и отделённый от всего остального высокой стеной. В свою очередь, в Императорском городе, где находятся цунг-ли-ямень, присутственные места, дворцы принцев крови и высших государственных сановников, как в скорлупе, заключён в высоких розовых стенах святая святых Китайской империи – Священный, или Запретный город, где построен дворец самого «сына Неба» – богдыхана.
Китайский – внешний – город окружён рвом и стеной. Шестнадцать ворот в нём, и все они с наступлением ночной темноты запираются. Также запираются ворота всех внутренних городов, так что ни в один из них нет возможности попасть ночью.
Чудный вид открывается со стены Маньчжурского города на весь Пекин. Окрестностей у столицы Поднебесной империи нет. Река Пей-хо вьётся голубой лентой в своих совершенно пологих берегах. Она в течение всего дня необыкновенно оживлена. Джонки и шампунки, нагруженные всяким товаром, быстро движутся вверх по течению. По обоим берегам реки тянутся маковые посевы и поля, покрытые белыми цветами. Совсем близко под Пекином со стороны реки раскинулись невысокие горы, застроенные виллами-дачами постоянно живущих в столице Китая иностранцев, уходящих сюда на дождливое время года, когда на улицах Пекина стоит грязь, в которой, как бывали уже тому примеры, тонули путники, нечаянно вывалившиеся из экипажей.
Особенно хорош вид со стены Маньчжурского города в ясный солнечный день на южную часть Пекина. Здесь всё сады и сады, по которым и сам Пекин зовётся «городом садов». Куда ни падает взгляд, всюду море зелёное, и в этом зелёном море выделяются, как небольшие островки, причудливые крыши китайских строений, архитектура которых не признаёт прямых линий. Если же взор падает на Императорский город, то невольно кажется, что все крыши там не иначе как золотые… Переливаясь всеми цветами радуги, блещут на солнце крытые глазированными жёлтыми, голубыми и зелёными черепицами крыши дворцов и храмов, все сливаясь вместе, и придают этому городу, если смотреть на него сверху, вид какого-то золотого моря…
Днём Пекин необычайно оживлён. Огромные караваны из вьючных двугорбых верблюдов тянутся бесконечными вереницами по длинным и извилистым улицам столицы. На них китайские купцы, обегая железную дорогу, привозят не только предметы роскоши, домашнего обихода и съестные припасы, но даже уголь и извёстку. По улицам всюду богатые магазины, чаще всего с позолоченными фронтонами. Но тут же на самих улицах раскинулись палатки, лари, простые стойки, в которых чем-нибудь да торгуют. коло них, обыкновенно группами, расхаживают маньчжуры в своих красных или жёлтых куртках, шапках и высоких сапогах.
Впереди палаток, большинство которых торгует готовым платьем, стоят зазывалы, да такие, что и Апраксин Двор Петербурга мог бы позавидовать им. Стоит только прохожему остановиться около палатки, как его без всякой церемонии схватывают под руки и вталкивают внутрь палатки; здесь он глазом моргнуть не успеет, как он уже раздет, и сейчас же начинается примерка. Впрочем, к чести пекинских зазывал, следует сказать, что никогда они не отпускают «крылатых слов» по адресу почему-либо не сошедшегося с ними покупателя. Расходятся тихо, мирно, по-хорошему.
Тут же на улицах кухмистерская. Собственно говоря, в строении находится одна только грязная кухня, а столующиеся располагаются на открытом воздухе у дверей. Здесь они утоляют свой голод далеко не аппетитно пахнущими блюдами и кофе, а иные угощаются подогретой водкой, которую подают в оловянных и всегда грязных кувшинах. Смешение магазинов полное. Рядом с роскошным магазином, отделанным на европейский лад, помещается грязная маньчжурская мясная лавка, перед дверьми которой навалены туши, но без голов и шеи. Эти части считаются особенно лакомыми и, вместе с жирными хвостами и внутренностями, развешаны внутри лавки. Тут же бойкий китаец торгует свининой, любимым мясом китайцев. Кругом бесчисленная и оживлённая толпа, в которой нельзя видеть женщин, потому что китайский обычай предписывает им как можно реже появляться на улицах. Свободнее других держат себя маньчжуры – хозяева положения. Они чувствуют себя здесь господами, тогда как истые китайцы принижены и выглядят какими-то загнанными, вечно чего-то боящимися. Вокруг китайского акробата, дающего свои представления при участии себя самого, ещё лохматой козы и какой-то голубоватой туземной породы обезьяны, толпа глазеющих маньчжур и китайцев. Все оживлённо веселы. Другая толпа собралась тесным живым кольцом около сказочника, передающего историческую повесть «О трёх царствах» и по окончании её перешедшего к передаче содержания китайского романа не совсем цензурного содержания. Его слушают очень внимательно и по окончании рассказа начинают вместо аплодисментов вертеть особые трещотки, издающие совершенно неприятные звуки. Над всей этой толпой носятся целые облака пыли, приносимой сюда из пустыни Гоби. Пыли этой так много, что от неё даже почва приняла жёлто-коричневый оттенок, но китайцы привыкли к ней и не обращают на неё даже внимания.
Таков Пекин.
Наступал чудный вечер. Жара начинала уже заметно спадать. Солнечный диск, мечущий свои последние жгучие лучи, уже опустился за линию горизонта. Весь запад был озарён ярко-багровым заревом от лучей заходящего дневного светила. Жизнь в столице Поднебесной империи ещё кипела, но это уже были последние её вспышки: зайдёт солнце, ночная тьма окутает землю, замкнутся на свои запоры все шестнадцать ворот внутреннего Пекина, и замрёт эта жизнь вплоть до того времени, когда дневное светило снова выплывет из неведомых бездн востока на небесную твердь.
На стене маньчжурского города собралось, пользуясь часами отрадной сумеречной прохлады, небольшое общество европейцев. Были дамы, которым, вопреки существующим китайским законам, запрещавшим женщинам из опасения бога Гуань-лоо-э выходить на стену, разрешалось посещать её; им сопутствовали офицеры стоявших в Пекине охранных посольских отрядов: англичане, французы, японцы, русские, студенты русско-китайского банка, весёлые молодые люди, и несколько стоявших в отдалении китайских слуг, словно замерших в почтительных позах.
Среди европейских дам невольно должна была бы привлечь к себе внимание молоденькая блондинка в изящном весеннем туалете. Черты её лица нельзя было бы назвать правильными, но именно эта-то неправильность и придавала ей неотразимую прелесть. Кокетливая головка с золотистой косой, голубые глаза, смотревшие весело и наивно, румянец щёк, милая простота движений – всё невольно так и влекло к этой девушке, как казалось, недавно ещё вышедшей из детского возраста и только ещё начинавшей развиваться в женщину. Так было и на самом деле.
Около блондинки собралось большинство мужчин. Ни на мгновение не смолкавшие французы несли всякий вздор и околесицу, чтобы только вызвать улыбку на её пухленькие губки. Солидные англичане, проживавшие в Пекине по всевозможным коммерческим делам, не отступали от неё ни на шаг. Русская молодёжь окружала её как преданный верный конвой, готовый охранять каждое мгновение своего маленького кумира от всякой опасности. Даже хмурый серо-желтокожий японец – полковник Шива – и тот словно поддался чарам этого молодого существа, и его раскосые глаза с удовольствием останавливались на изящной фигурке молодой девушки, не обращавшей, впрочем, на сумрачного японца никакого внимания. Она избрала себе постоянного кавалера, и в этом выборе сказался природный такт, ибо ни для кого выбор этот не мог быть обидным.
Постоянным кавалером в этот вечер оказался старый профессор английского языка Губерт Джемс, по уши влюблённый в Китай и во всё китайское. Вне этой любви для него ничего не существовало, и женские чары не производили на почтенного учёного никакого влияния.
Молоденькая красавица была не единственной представительницей прекрасной половины рода человеческого в этом небольшом кружке. Вместе с нею была подруга её, высокого роста бледноватая женщина с типичными русскими чертами лица. Она казалась несколько старше своей молоденькой подруги. В её движениях замечалось более уверенности, так сказать, солидности, важного покоя, который обыкновенно и отличает особенным отпечатком уже замужних женщин. Золотое гладкое кольцо на безымянном пальце доказывало, что она уже действительно была замужем, но в то же время заметно было, что держит она себя совершенно свободно и легко среди всей этой разнородной компании.
Молодая девушка была Елена Васильевна Кочерова, дочь русского богатого коммерсанта Василия Ивановича Кочерова, более года по торговым делам своим жившего вместе с семейством в столице Поднебесной империи.
Её-то и видел во сне Николай Иванович Шатов в тот вечер, когда он вернулся в холостую квартиру из фанзы бедного Юнь-Ань-О. Ею он и бредил, когда шум тревоги разбудил его, а рвавшееся прямо в окна зарево пожара разом рассеяло все его грёзы и мечты.
Подруга Елены Васильевны была жена её родного брата Варвара Алексеевна. Михаил Васильевич Кочеров, единственный сын и единственный помощник отца во всех делах его, был в это время далеко от них – в пустынях Маньчжурии, где у него были дела по подрядам на восточнокитайскую железную дорогу, и молодая женщина более полугода уже оставалась, что называется, «соломенной вдовушкой».
Молодая компания шумела и смеялась, шутила, перекидывалась всевозможными остротами, вовсе не стесняясь небольшой кучки мужчин, стоявших невдалеке и с жаром разговаривавших между собой.
Тут были все до некоторой степени «властители положения»… Серьёзный англичанин, посол Великобритании сэр Клод Макдональд, холодный, бесстрастно-важный и словно застывший в своём напускном бесстрастии. В сравнении с ним живой, необыкновенно подвижный m-r Пишон, представитель Франции, составлял резкий контраст. Он один говорил и смеялся за всех, оживляя своей неподдельной непринуждённостью всю эту небольшую компанию дипломатов. Тут же был дымивший сигарой грубоватый, надменного вида германский дипломат барон Кеттелер, как-то свысока глядевший на всех присутствующих. Вместе с дипломатами вышли подышать вечерней прохладой на стену Дмитрий Дмитриевич Покатилов, управляющий Русско-Китайским банком, лучший в мире знаток Крайнего Востока, профессор Позднеев, великий знаток Маньчжурии. Не обошлось, само собой разумеется, и без представителей прессы. «Седьмую великую державу» в этом небольшом кружке представлял д-р Марриссон, знаменитый корреспондент лондонского «Times», серьёзный пожилой человек, всё видевший и делавший в то же время вид, что он ничего не замечает.
Кроме них тут же было ещё несколько пожилых и важного вида людей: английских и германских крупных негоциантов, банкиров и даже один из представителей «воинствующей католической церкви», почтенный старик миссионер д’Аддозио.
В то время, как молодёжь шумела, смеялась, наполняя своим шумом всё вокруг себя, дипломаты вели себя сосредоточенно-важно, словно они составляли из себя какую-то конференцию, а не пользовались минутами выпавшего на их долю отдыха.
– Нет, господа, что бы вы ни говорили, а в Китае чувствуется что-то такое совершенно небывалое! – говорил пожилой краснощёкий м-р Раулинссон, лондонский негоциант, представитель своей фирмы в Пекине. – Я могу считаться здесь старожилом и думаю, что хорошо знаю китайцев. Почему-то они мне кажутся чересчур подозрительными.
– Что-то особенное замечаете вы, почтенный сэр? – спросил у него коротенький толстенький Макс Миллер, немец, тоже немало живший в Китае. – Я не вижу в поведении наших желтолицых друзей ничего особенного. Они приветливы, вежливы, тихи, как и всегда.
– Не скажите: всё это – маска!
– Но почему вы так думаете?
– Меня прежде всего поражает необыкновенная солидарность между маньчжурами и китайцами.
– Что же тут особенного?
– Очень много! Маньчжуры всегда свысока относились к китайцам, считая их людьми ниже себя; если у них явилась солидарность – заметьте, солидарность победителей и побеждённых, – стало быть, есть общие, дорогие для тех и других, ин тересы…
– Всё это легко может быть! Люди живут столько времени вместе, что этим интересам и немудрено появиться, и даже очень уже давно.
– Однако прежде этого не было… Потом, то в одном, то в другом дворце с тех пор, как избран наследник престола, происходят какие-то тайные совещания. И это чуть не каждый день, вечер, я хотел сказать. Обратите также внимание на то, что к Пекину ежедневно стягиваются отборные татарские войска, и главнокомандующий ими, этот ужасный Дун-Фу-Сян, стал одним из первых друзей отца престолонаследника – принца Туана!..[20]
– Опять это объясняется очень просто. Туан, этот поэт-мыслитель, очень умный человек и ищет опоры на всякий случай для своей будущей династии.
– Может быть, может быть! Только если мотивы этого сближения иные?
– Какие именно?..
– Ну, хотя бы… как вам это сказать? Хотя бы избавление Китая от влияния белых дьяволов… Вам известно ведь, что этим милым прозвищем наши желтолицые друзья-хозяева величают всех нас без исключения…
– Этого никогда не может быть! – пылко воскликнул один из французов, внимательно прислушивавшийся к разговору Миллера и Раулинссона. – Да, никогда не может быть!
– Почему вы так думаете? – улыбаясь, спросил Раулинссон.
– Китайцы все поголовно – трусы, это прежде всего…
– Не скажите…
– Это общеизвестно…
– Не забудьте, однако, что в массе китайского народа множество монголов, а уж кого-кого, а их в трусости заподозрить никак нельзя… Потом, заметьте себе, что китайцев вообще масса. Они в состоянии подавить врагов если не храбростью, то своей численностью…
– И это ничего не значит! Европейские пушки разредят эту вашу массу, а штыки европейских солдат докончат всё остальное… в этом не может быть сомнения.
1 Подлинное имя столь прославившегося за последнее время этого китайского патриота Дуань-Ван, но мы будем здесь называть его уже установившимся за ним среди европейцев именем Туана.
Почтенный англичанин покачал головой и только что хотел ответить своему пылкому оппоненту, как в группе молодёжи раздались громкие восклицания:
– Смотрите, смотрите, что это с ними!
Здания посольств и дома европейцев, поселившихся в Пекине, находились в Маньчжурском городе, в той его части, которая отделяла дворец от Китайского города. Как и все в Китае, европейцы жили вполне обособленно, контактируя с китайцами исключительно через свою китайскую прислугу. Со стены европейский квартал казался прелестным уголком, утопавшим в зелени садов. Но сейчас же рядом с ним картина резко менялась. По соседству с европейским посёлком раскинут был целый монгольский лагерь, состоявший из войлочных палаток. Обыкновенно тут жили торговцы, снабжавшие Пекин бараниной и дичью, но с некоторого времени характер населения лагеря резко изменился. Появились совершенно новые люди – все сравнительно молодые, сильные, здоровые и, как казалось, жившие в Пекине без всякого дела. Они ярко выделялись в массе остального населения, может быть, благодаря своему особенному костюму. Каждый из этих людей носил на голове красную повязку и был поверх одежды опоясан крест-накрест по груди или талии красным же шнурком, которым были также обвиты и их ноги. Их грудь всегда была увешана множеством вещиц, почитавшихся среди китайцев талисманами. Очень часто они проделывали какие-то таинственные упражнения, похожие на упражнения европейских акробатов, и теперь собравшаяся на крепостной стене европейская молодёжь имела возможность наблюдать одно из них.
На тщательно выровненной и утрамбованной площадке стояли в ряд человек 10–15, обратясь лицами на юго-восток. Перед каждым из них в некотором отдалении был воткнут прямо в землю горевший ярким пламенем смоляной факел. Все эти люди, раскачиваясь из стороны в сторону, произносили нараспев какие-то слова, в которых очень часто упоминалось имя китайского бога войны Гуань-лоо-э. Всё это продолжалось довольно долго и, наконец, стало наскучивать европейцам.
– Что это они делают? Вероятно, это какой-нибудь религиозный обряд, мистер Джемс? – спросила Лена у своего почтенного кавалера.
Учёный не замедлил с ответом.
– О, вы не ошиблись, мадемуазель Елена! – воскликнул он, и в голосе его послышался восторг. – Эти прекрасные люди – члены сообщества «И-хо-туан» – добровольного ополчения, как они себя называют, или «боксёры», как мы называем их. Они, повторяю, прекрасные, безобидные люди, не делающие никому зла и, скорее, приносящие населению пользу.
Слышавший эти слова мрачный полковник Шива при восторженном заявлении мистера Джемса как-то странно улыбнулся.
– Что же они проделывают? – спросила теперь уже Варвара Алексеевна. – Глядите, они жгут какие-то бумажки.
– В этом и заключается весь молитвенный обряд этих людей. Они думают, что их моления богу войны делают их неуязвимыми. Право же, от того, что они думают так, никому вреда нет, и не будем смеяться над верой этих простых людей.
– А зачем им быть неуязвимыми? – шутливо спросила Лена.
– Большая часть их служит проводниками караванов и охраняет их от разбойников, а этого добра в Китае не занимать.
– Только и всего?
– Да, только…
– Я думала, что цель их другая… Право, всегда кажется, где видишь подобные обряды, что здесь не одна только прозаическая сторона… Это скучно! Немножко поэзии никогда не мешает.
– Если вы останетесь в Пекине, m-lle, – вмешался угрюмо молчавший дотоле Шива, – то будете иметь случай познакомиться очень близко с этими людьми.
– Да? Вы думаете, полковник?
– Уверен…
– У них будет возможность испытать на деле, действительны их заклинания или нет! – вставил замечание один из молодых людей, прислушивавшийся к разговору.
– Как так? На чём? – быстро спросила его Елена Васильевна.
– Не знаю, чьё сердце не было бы уязвлено вами, вашими глазами! – последовал сопровождаемый поклоном ответ.
Лена рассмеялась.
– Глядите-ка, они теперь проделывают что-то совсем новое.
Действительно, часть боксёров, после сожжения молитвенных бумажек, сложив как-то по-особенному руки, стали на четвереньки, и каждый из них принялся делать туловищем качательные движения из стороны в сторону. На стене не спускали с них глаз, ожидая, что будет далее. Появились бинокли, в которые можно было разглядеть всю сцену в малейших подробностях. На боксёров то и дело «накатывал дух». С ними делались судороги, подобно эпилептическим. Время от времени кто-нибудь из них падал в корчах на землю и начинал биться в жестоком нервном припадке. Потом, словно его толкнули, он вскакивал на ноги и начинал неистово размахивать руками и кричать. На губах этих несчастных показывалась пена, глаза наливались кровью и выкатывались из орбит – вблизи на них страшно было бы смотреть.







