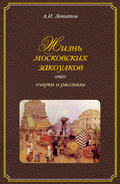Александр Левитов
Петербургский случай
I
Зимой еще можно кое-как жить в Петербурге, потому что безобразный гомон многотысячных столичных жизней отлично разбивается об эти тяжелые, двойные оконные рамы, завешенные толстыми сторами, заставленные массивными цветочными горшками изнутри и запушенные инеем снаружи.
Доносится только в комнаты по петербургским зимам какой-то злобно шипящий, неразборчивый гул, напоминающий собою тот яростный сап, который издают два врага, когда они после ожесточенной свалки валяются по земле и употребляют последние усилия, чтобы хорошенько попридушить друг друга…
За исключением этого шума, внутренние апартаменты Петербурга совершенно тихи, и если в них временами и разыгрываются какие-либо драмы, то содержанием этих драм бывает непременно мерзость, таящаяся внутри комнат, а никак не залетающая в них снаружи.
Не то бывает летом.
Самым ранним утром, когда, как говорится, черти на кулачки не бились, жизнь большого города уже в полном разгаре. Валят целые орды разносчиков, криками которых так и давятся эти маленькие, тесные, напоминающие собою гроба, дворики, свойственные одному Петербургу.
– Сиги морские! Сиги! – глухим и унылым басом голосит рыбник. – Сиг-ги мор-рские!
– Слат-ткай лукк молодой! – скорыми дискантовыми нотками вторит ему молодая бабенка, изгибаясь под тяжестью большой плетеной корзинки, нагруженной пучками лука.
– Та-ач-чить ннажи, ножницы! – резко поет мальчишка-точильщик, опираясь на свой станок с грацией, решительно превосходившей ту грацию, с которою в известной песне опирался на свою саблю гусар[2], глубоко огорченный предстоявшей ему разлукой с милой особой.
– Сиги… – снова затянул было рыбник, но его возглас окончательно заглушён был другим возгласом, звонко хлестнувшим по маленькому, колодезеобразному дворику:
– Э-э! Сиги! Я тебе дам этих самых сигов, – кричало одно окно в пятом этаже, показывая в то же время людям, способным быть разбуженными этими криками, как в нем светится толстое разозленное лицо кухарки, стоящей за хозяйские интересы. – Поди-ка, поди-ка сюда! Вздымись к нам на лестницу. Ты какую нам рыбу третьеводня продал? Вот он тебя, барин-то! Вздымись! Вздымись!
Рыбник, видимо, не предполагал такого приглашения. Несмотря на обременявший его голову лоток с морскими сигами, он стремительно повернул налево кругом, и желание его исчезнуть за воротами большого дома было более чем очевидно.
– Иван! Иван! Держи рыбника. Барин его беспременно изнять велел, – кричит окно пятого этажа дворнику, старавшемуся навалить на свою спину страшную охапку дров. – Он рыбой вонючей торгует. Лови!
Иван живо и, очевидно, без малейшего сожаления сбрасывает с плеч своего вековечного утреннего друга – дрова и летит преследовать беглеца, с необыкновенным азартом приглашая к тому же всех встречавшихся по дороге любезных сограждан.
– Дер-ржи! Дер-ржи! Вот я тебя, расподлец! Вот мы тебя, раз-зтакой! Раз-зутюжим! Раз-зуваж-жим!
Гулко раздалась эта погоня за бежавшим рыбником. К голосу дворника Ивана присоединились другие, яростные, но, видимо, не понимавшие, в чем дело, голоса. Как буря, сплошно и неразборчиво ревели все эти или, несмотря на раннее утро, совсем уже пьяные рожи, или такие, на которых недоверчиво посматривали городовые, вооруженные револьверами.
– Где? Где? Н-не-ет, брат, у нас так не водится… Где мазурик? Поймали? Сцапцарапали? Ох-х! Я, я бы ему типериччи спросонков-то… Ух-х! И клеванул бы его, дьявола, для праздника…
Из подвалов выбегали заспанные мастеровые с присущими известным специальностям орудиями; с верхних этажей слетали как бы окрыленные кухарки, лакеи и горничные, обгоняемые господскими собаками, обрадовавшимися случаю выбежать на двор и потолковать на своем собачьем языке с добрыми соседскими благоприятелями. Все эти субъекты, наталкиваясь друг на друга, суетливо менялись сведениями и соображениями вроде следующих:
– Что? Как! С ножиком приходил? К кому?
– Н-не-ет! Какое там с ножиком приходил? Это вон у табачника приказчик семь тысяч сдул.
На дворик выходило множество задних дверей, которые вели в различные магазины. Прислушиваясь к разнообразным разговорам, хозяева этих магазинов заботливо осматривали толстые дверные болты, потрогивали замки, между тем как собаки, выбежавшие на двор, совсем ополоумели от страстного желания уяснить себе историю, взволновавшую людей, чего они старались достигнуть неразумным скаканием и тщательным обнюхиванием каждого сколько-нибудь выдающегося булыжника, каждого сколько-нибудь потаенного уголка.
Наступает относительная тишь, разрываемая хохотом над ажитированными собаками, выкриками молодой бабенки насчет сладкого луку, протяжным пением грациозного мальчишки-точильщика и унылым речитативом, сообщавшим столичному люду, что в каком-то далеком захолустье «обвалимшись кумпал в приделе Николая-чудотворца».
По этому последнему случаю публика каким-то необыкновенным смиренным дядей Власом[3] приглашалась пожертвовать на возобновление разрушенного купола от своих трудов праведных «хоша бы лепту какую».
– Динь! Динь! Динь! – серебристо позванивает колокольчиком дядя Влас, грустно посматривая по верхам и сопровождая этот звон своим собственным козелковатым тенорком. – Р-радейте, православные! Потому как молонья обжогши церкву наскрозь… И была же при эфтом, господа хрисьяне любезные, чуда большая…
И как будто снова уснул на зорьке большой столичный дом, редко когда действительно засыпающий. Многим тревожно грезившим уже снилось, как где-то в какой-то необыкновенной дали, над каким-то селом, разразилась гневная, темно-синяя туча. С неба бежит такой стремительный дождь, который никогда не падал на петербургские мостовые, – молнии так и блещут над этими приниженными непогодой избами, – над этими полями, как будто испуганными разразившеюся над ними грозою.
Между тем толпа, убежавшая было по следам нечестивого рыбника, снова прилетела на двор и загудела еще громче и смешаннее.
– Нет! Это што ж? – уныло басил сцапанный наконец рыбник. – У тебя на это глаза есть, – продолжал он голосом, очевидно, просившим о помиловании. – Ты должна, примером, глядеть, что покупаешь. Тебе за это господа жалованье платят. К праздникам опять тебе подарки идут от господ-то. Нам ведь об этом довольно известно…
– Да ты, каналья, о пустяках-то не разговаривай! – отсоветовал рыбнику объясняться в нравящемся ему тоне какой-то барин в халате и туфлях. – Ты лучше вот что скажи: на сколько у тебя этой тухлятины моя кухарка купила?
– Да што ж? Известно, она у вас, сударь, жадная. Я ее, может, с коих пор знаю. Она всегда такая была… Уж на что скупа старуха майорша, которая вон в суседском дому живет, а и та кухарку-то вашу, сударь, прогнала от себя, потому она ее со всеми торговцами перемутила. С ими, сударь, на Сенной никто изо всех торговцев одного слова разговаривать не хотел, не токма продавать…
– Не верьте, барин, не верьте! – протестовала кухарка против этого обвинения. – Эфто он к вам с подвохом… Штобы, то есть, как-нибудь меня против вас в сумление ввесть.
– А так, барин, весь мой совет вам, – вмешался кто-то из окруживших лоток рыбника с своим замечанием, – отпустить его – этого самого бездельника. Насовать ему морду-то рыбой и отпустить, потому что с им иначе ничего не поделаешь! Не токма рыба у него дохлая, а и сам-то дохлый совсем… Вы сами видите, потому будь он ежели не дохлый-то, рази бы он попался?.. Право, насуйте, – и с господом, чем канитель-то тянуть…
Рыбы, выглядывавшие из лотка своими тусклыми глазами, очевидно, не разделяли подобного мнения. В глубоком недоумении они посматривали на окружавшую их публику и как будто говорили:
«Что же это такое? Разве нас для того привезли сюда, чтобы нами по мордам тыкать? Н-не-ет! Ты нас, брат, ешь! Вот что!»
Барин в халате тоже не послушал советчика, разрешавшего сначала понатыкать рыбника в морду, а потом отпустить его. Поигрывая кисточками халатного пояса, он распорядился послать за околоточным, с которым тут же, на дворе, и составили протокол о торговле попорченной рыбой, производимой крестьянином Фомой Веденеевым в ущерб здоровья столичных жителей, который Фома Веденеев в сем промысле и был уличен титулярным советником Энгелем и кухаркой оного Аграфеной Зотовой, жительствующими и т. д. и т. д.
Смотря на процесс составления протокола, торгующий попорченной рыбой Веденеев глубоко конфузился, что он с достаточным успехом выражал неопределенным пучением глаз на какие-то, кроме его, никому не видимые предметы и такого рода непонятным бормотаньем:
– Ну штош! Эва! Ну и прописывай! Нне-ет! Но-оне, брат, обглядись перва-наперва прописывать-то. Так-тось!.. Ныне, брат, не всяко лыко в строку пиши…
Длинная фигура Фомы стояла на дворе такой одинокою, такою печальною, что еще незнакомые с его историей люди останавливались и жалобно друг у друга спрашивали:
– Это что же детинка-то здесь стоит?
– Судють!.. Четырнадцать тысяч у купца – у немца – украл. Артельщиком был у его – и украл. Сказывают: теперь пареньку-то капут, потому он в азартности в своей весь рот немцу-то паполы разорвал. Ну, теперь вот напишут бумагу, и к мировому. По-старому: его бы надо было прямо в острог; но по-нонишнему: без мирового ничего поделать нельзя…
Глуше и глуше становилась домовая буря. Все дальше куда-то улетала она, сердито, но сдержанно ропща и негодуя на что-то. Наконец двое городовых совсем усмирили ее тем, что сначала предложили кое-кому из особенно раззевавшихся очистить дворик, а потом уже и сами ушли вместе с длинным рыбником, поддерживая его под обе мышки, чем, вероятно, они хотели выразить ему свое глубокое сочувствие к постигшему его бедствию.
– Ну что хорошего! – наставительно басили городовые рыбнику. – Ну вот, что тут хорошего: рыбой это он вонючей торгует, господ обижает. Вот теперь на свидетельство… К самому господину мировому судье… Ах-х! И строги же они насчет вас, господа торговцы…
– Ну и што ж? Ну и што ж? – с полной и бессознательной апатией шептал рыбник. – Ну и веди! Веди! Нне-ет, брат, я знаю… Нич-чево!.. Мы, брат, тоже сами… Нас, брат…
Кроме этого бурленья ничего не тревожит спящих в большом доме, за исключением разве попки, принадлежавшего одной очень красивой девице, который, в качестве птицы проснувшись очень рано, то злобно кричал, что «попка дурак, попка подлец», то с какою-то болезненной нежностью жаловался кому-то, что у попиньки головка болит – «бол-лен попка, умр-рет попка!..»
– М-маш-ша! – отчеканивал попугай на весь двор. – М-ма-ша! Умр-ру! Дай попиньке папир-ро-с! Дай попинь-ке сахарцу!
Солнце, несогласное с мыслями попиньки относительно возможности такой смерти, восходило между тем все выше и выше. И восходом своим оно будило других, иначе живущих людей и вызывало другие голоса и другие жизненные процессы.
– Детей бы уж теперь время гулять вести, – говорят седые сердитые бакенбарды, шаркая по паркету свистящими туфлями.
– Я сейчас сама пойду с ними, – отвечает виднеющаяся в окне русая головка, к затылку которой был привешен громадный и неимоверно кокетливый шиньон. – Вот только выпью кофе, оденусь и пойду.
– Да можно бы и с Агафьей послать, – гневно шаркают сердитые туфли. – Кажется, это было бы все равно.
– Для вас все равно, а для меня нет! – отвечает русая головка, напряженно стараясь не выпустить из злобно и энергично сжатых губ более колкого ответа.
Растворенные окна другой квартиры дозволяют знать, что в настоящую минуту уже десять часов утра, потому что у фортепиано стоит какой-то молодой человек во фраке, необыкновенно гладко причесанный, в перчатках, подле него девушка, улыбающееся лицо которой ясно показывает, что она долго и страстно ждала кого-то… Оба они садятся за фортепиано, и начинаются гаммы – эти столь мучительные для соседей гаммы, продолжающиеся целый полуторарублевый час.
Всякий видит и слышит из своего окна, как фортепиано мерно звучит:
– Тра-ра-ра! Тра-ра-ра!
Всякий видит и слышит, как учитель говорит, касаясь тонких и беленьких пальчиков:
– Не так! Не так! Это неверно! Это нужно брать вот как… – И затем учитель устанавливает на клавишах тонкие беленькие пальчики, ударяет ими по поющей слоновой кости и говорит: «раз, два, три»; а потом он уже без всякого счета принимается целовать неумелую ручку; а владетельница этой ручки смотрит на него с такой ласковой, с такой нежной улыбкой…
И все это видно в открытое окно, чего зимой, разумеется, не увидишь.
А попка продолжает кричать:
– Дур-рак попка! У попиньки головка болит… Попинька сахару хочет… М-ма-аша! Дай попиньке сахарку…
Всеми разнообразно жизненными тонами, которыми люди выражают и горе и радости, кричит маленький дворик большого столичного дома. Больше и больше разрастается светлое сияние весеннего дня, вместе с которым все больше и больше разрастается жизненное движение, пригретое им.
Оркестр странствующих музыкантов, которые, невзирая на свои отрепанные сюртуки и избитые в ближайшем погребке лица, стараются изобразить из себя артистов, меланхолически закатывает: «Ты умерла, ты умерла».
Дурацки визгливо растолковывают артисты про какую-то умершую, видимо, ничуть не умея своими, отчасти от голода, отчасти от пьянства трясущимися руками воспроизводить мысли тех людей, которые имеют способность ловить своими руками неуловимо-зигзагические реяния звуков, слышимых в природе, и составлять из них стройные хоры, в высокой степени услаждающие людские сердца, даже и тогда, когда хоры эти поют про бесконечную жизненную горечь…
Глухо падают на мостовую дворика пятаки, имеющие вознаградить труд музыкантов…
Страшный жар разлился по нашему дворику, и солнечные лучи, отражаясь на его высоких белых стенах, так и слепили глаза. В окнах постоянно вырисовывались красные, пыхтящие физиономии, обмахивавшиеся белыми платками.
– Ну, жара! – говорили эти физиономии. – И откуда только эта пыль лезет? Ах! дождичка бы теперь господь послал пыль бы эту прибить.
И действительно, с чисто-начисто выметенного дворика вместе с лучевыми столбами врывалась в комнаты какая-то седая, едкая пыль, которая толстыми слоями ложилась на оконные цветы, на мебель, залезала в уши и рты и, наконец, тем досаднее и гуще распудривала лица, чем чаще и старательнее ее смывали с них.
Под влиянием этого жара приуныла как будто даже неугомонная жизнь дома. Девицын попугай уже не ругался и не жаловался, а только изредка покряхтывал что-то неразборчивое, страдальчески раскрывая свой изогнутый клюв, из которого виднелся красный дрожащий язычок.
Многое множество людей торопливо проходило по дворику, стараясь поскорее укрыться от жара в холодке своих апартаментов. Ничуть не обращая на себя внимания проходящих лиц, на дворике торчит только совершенно одинокою группа, состоящая из долговязого слепого человека в синем мещанском сюртуке, в опорках, показывавших красные ноги с синими, напряженными жилами, и маленького босого мальчика в серой свитенке, который, видимо, был руководителем слепца в его странствованиях по извилистым и шумным стогнам Петербурга.
– Дяденька! Играй песню шибче! – по временам шептал мальчишка, потрогивая слепого за сюртук и устремляя на него свое весноватое тупое лицо. – Барыня вон на нас из окошечка поглядывает. Забирай покрепше! Чево ты боисси? Вишь, вон все на тебя как грохочут… Страсть как!..
При этом внушении слепой молодцевато встряхивал своей нечесаной головою, от чего рваный ваточный картуз его ухарски завалился набок. Взбрасывал тогда слепец к небу свои тусклые, безжизненные глаза, обводил в воздухе широкую звенящую дугу увешанным гремучими позвонками бубном и отчаянно-болезненным голосом принимался выкрикивать развеселую:
Вдоль да по речке,
Ах, вдоль да по Казанке,
Серый селезень плывет.
Мальчишка, в свою очередь, всем своим гнусавым контральто старался показать публике и речку Казанку, и плывшего по ней серого селезня; но должно быть, что ни пареньку по его малолетству, ни патрону его по случаю слепоты ни разу не удавалось видеть ни одного действующего лица из распеваемой ими истории, а потому певчие, в качестве недостаточно ясных историков, всем двориком единодушно были засыпаны вместо трешников самыми ядовитыми насмешками.
– Дядюшка! Побегем, золотой! – посоветовал наконец слепому его малолетний вожатый. – Вот какая-то куфарка в нас с тобой горшком понацеливает.
– А, калеки убогие, разнесчастные! – в действительности морализировала куфарка, седая такая, толсто-серьезная, в белом чепце. – Нет чтобы, калеки, вам об убожестве-то об своем к господу богу припасть… Танцыю вздумали представлять… Подожди… В такие времена – и ты, слепень ты эдакой, раскуражился как? А? Скажите, люди добрые, што он, в уме ли? Да еще и малого ребенка в грех ввел…
Раздался звон разбитой посуды, черепки которой, словно осколки разорвавшейся бомбы, полетели в певцов.
Общественное мнение дворика, ввиду обрушившегося над слепцом факта, разделилось на две категории: один, гладко выбритый, солидный господин, сидевший в окне, осененном белоснежными драпри, внушительно вдалбливал кому-то:
– Я давно говорю, mon cher[4], всех бы их на ответственность сельских обществ. Ка-ак же? Подавал проект. Говорю: освободите нас от этих бродяг. Примерно: взял его и сейчас по этапу в общество. Оно должно уже уплачивать пересылочные предметы за своего несостоятельного члена. Нормально? Иначе: не пускай или, отпустивши, ручайся всем миром… Нор-рмально?..
– Без сомнения, ваше-ство! – ответил изнутри комнаты какой-то заискивающий шипящий голос, весьма, должно быть, похожий на то шипенье змея-искусителя, с которым он подкатывался к нашей общей прародительнице.
– Но поймите, – продолжал прожектер. – Что за времена? Не приняли – и вот теперь сиди и слушай всякую чушь. Понимаете: я плачу – я хочу быть спокоен. Говорят: подати там, заработки какие-то? Я плачу больше их. С меня, понимаете, косвенные налоги всякие, – я оплачиваю их, никуда не шатаясь, не клянчу, нервы дурацкими песнями никому не расстраиваю…