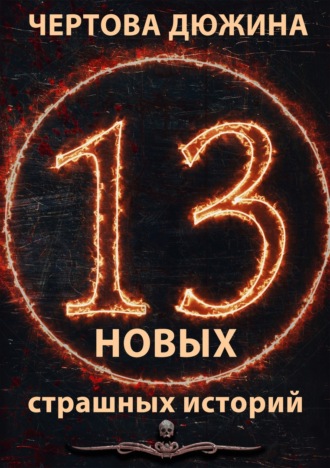
Максим Кабир
Чертова дюжина. 13 новых страшных историй. 2021
Мишка съеживается. Вода в галошах снова начинает леденеть – и он уже почти не чувствует ног. Но все равно, оступаясь и поскальзываясь, бежит в подворотню, где скукоживается в три погибели и сует пальцы в рот.
Он же не жевал их! Не жевал! Он глотал их живьем – и может быть, сейчас сможет выблевать все! Живыми, как есть! А потом соберет их – и вернет вустричному богу!
Мишкино тельце содрогается в спазмах – и выходит первая вустрица. Она лежит на снежке, жалкая и сморщенная, как кусок языка мертвеца.
Еще один мучительный спазм – и выходит вторая. Потом третья и четвертая.
За Мишкиной спиной что-то начинает шевелиться и ворочаться. В нос ударяет тиной и болотной жижей, по спине скользит мокрое и липкое. Мишка тихо ахает – но продолжает извергать из себя вустриц, остервенело тыча пальцами в горло. Под ногтями у него кровь, кровь на языке и губах – но выходят уже пятая и шестая.
Седьмая и восьмая идут тяжело, с желчью, грудь раздирает кашель, брюхо крутит в агонии. Вустричный бог ползает за Мишкиной спиной, тяжело и зловеще вздыхая. Он ждет, ждет, ждет, когда Мишка вернет ему его детей – всех, до единого – и тогда, может быть, и простит глупого, неразумного мальчишку!
Девятая и десятая. Мишка содрогается в приступах безудержной пустой рвоты слизью и слюнями, цепляется за стену в попытках не упасть. Вустричный бог замирает за спиной – ему не нравится, что возврат так затягивается.
Одиннадцатая.
– Сейчас, – шепчет виновато Мишка. – Сейчас, сейчас…
Двенадцатой нет.
Мишке кажется, что он уже весь вывернулся наизнанку, как старая рваная рукавица – но двенадцатой нет! Она пропала. Мишкино брюхо, голодное и жадное, успело пожрать ее!
– Нет… – тихо шепчет Мишка, упираясь горячим лбом в холодную стену. Он боится оглянуться. Боится сказать в лицо отцу миллионов, миллиардов вустриц, что одно его дитя все-таки сожрано.
Вустричный бог все понимает – и ярится. Он хлещет по стенам, шипит и плюется Мишке в затылок холодной и едкой слюной, выкручивает ему суставы жестокой ломотой, вытягивает нервы через давным-давно онемевшие пятки.
«Господи вустричный бог, – бормочет Мишка, цепляясь за стену из последних сил, так и не решаясь оглянуться. – Помилуй мя, грешного. Ибо не ведал я, что творил. Ибо…»
А потом Мишка поскальзывается и падает – на этот раз ударяясь затылком неожиданно громко и хрустко.
И звезд не видно – над головой лишь каменный свод подворотни, слепой и безучастный.
– Однако, Владимир Христофорович, – вдруг пробивается в угасающее Мишкино сознание. – Кажется, это тот мальчик, который только что участвовал в нашем споре.
– Да, вы правы, Иван Викентьевич.
– Кажется он совсем плох, верно? Ох, и метель же началась, даже сюда заносит! Мокрая, жуть!
– Если совсем не умер. Странно, свежайшие же были.
– А что это означает?
– Что?
– Что кажется, я выиграл!
– Отчего ж, Иван Викентьевич?
– Ну так впрок мальчику не пошло – значит, выигрыш за мной.
– В ваших словах есть логика, конечно, Иван Викентьевич, но давайте ее обсудим за стопочкой смирновки.
– Во льду?
– Естественно!
– Ах, умеете вы, Владимир Христофорович, настоять на своем. Идем же!
И опускается тяжелая, плотная, твердая темнота – словно вустричный бог закрывает створки всего и вся.
Из письма А.П. Чехова Н.Н. Оболонскому
5 ноября 1892 г. Петербург.
…Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь Николай Николаевич! Я хожу в Милютин ряд и ем там устриц. Мне положительно нечего делать, и я думаю только о том, что бы мне съесть и что выпить, и жалею, что нет такой устрицы, которая меня бы съела в наказание за грехи…
Олег Савощик
Черный человек
За такие деньги коктейль должен быть повкуснее. Морщусь от горечи во рту и ставлю стакан на место.
Полумрак зала едва вмещает двадцать человек. На полках лежат игровые приставки, на стенах висят огромные плазмы. Сейчас по ним беззвучно крутят ролики с «красивой» жизнью: солнечные пляжи, белоснежные яхты и танцующие девочки в купальниках.
Вечерами здесь собирается «полабать в плейстейшн» и покурить кальян золотая молодежь, но днем по будням, дважды в неделю, помещение занимают студенты, которые даже не могут позволить себе выпивку из бара, престарелые франты в потертых пиджаках, да прочая недобитая интеллигенция.
«Поэтический круг» – так они себя называют. Выходят из-за столов с зажатыми в потных ладошках смартфонами или читают срывающимся голосом по памяти свою «томную, дохлую лирику», как выразился бы классик.
Сплошь любовные излияния или жизнеутверждающие, до пошлости пропитанные детской наивностью, неуместным сарказмом… Вот скачет и кривляется, со скрипом пытаясь выдавить несуществующую артистичность, девочка с косичками. Колечко в ее носу при тусклом освещении похоже на соплю. А вот парнишка в растянутом свитере бренчит по струнам, даже не стараясь попадать в ноты. Долго, наверное, подбирал два аккорда под свои вирши.
А вот эта, с волосами ниже поясницы, вроде ничего.
«Кто-то играет со смертью,
Кого-то она пугает,
Кто-то ей молится с детства,
Кто-то же проклинает…»
Миленько. Интересно, она сама понимает, как точно выделила «игроков» среди всех остальных?
Длинноволосая возвращается на место, ее провожают дежурными аплодисментами, пожалуй, даже громче обычного. Здесь редко слушают кого-то, кроме себя.
«Ах, люблю я поэтов…» – приходят в голову слова того же классика. Народ действительно забавный. Их попытки в творчество – как лакмусовая бумажка. Все, что у пьяного на языке, как говорится. Душевные терзания, прикушенные до крови губы, ночные страхи: все это здесь, в их словах и неумелых рифмах.
Я продолжаю слушать вполуха, то поглядывая на загорелые тела на экранах, то делая глоток из своего стакана. Чувство пониже грудной клетки похоже на горячий компресс, тепло поднимается выше, и сердце отзывается учащенным ритмом. Дышу глубже.
Нет, все не то! Все пошло, вторично, скучно! Другое, вот уже битый месяц я ищу здесь совсем другое…
Объявляют перерыв, и я поднимаюсь в бар. За стойкой пусто, у панорамных окон лишь пара занятых столиков. «Корона» закрыла половину заведений в центре, а сборище начинающих поэтов создает здесь хоть какую-то движуху.
Задумчиво топчусь около гардероба, но решаю не одеваться и выхожу на улицу. Холодный воздух впивается иглами в голую шею, и я поднимаю ворот рубашки. Закуриваю.
Вместе со мной выходит кучка рифмоплетов, через один с вейпами, тонкими сигаретами, всем вот этим вот куревом для пидрил. Отхожу на другой конец крыльца, всматриваюсь в серость улицы. С пепельных облаков ветер приносит мокрую пыль, швыряет в лицо. Прикрываю рукой сигарету.
Через дорогу девушка на остановке стоит в майке, голые плечи в конце октября – что-то новенькое. Она поднимает руку, машет кому-то на этой стороне. Узнала одного из поэтов? На секунду кажется, что машет мне, и я всматриваюсь в худенький силуэт. Она улыбается и делает шаг прямо под подъезжающий автобус.
Дым застывает в легких, и я закашливаюсь, сплевываю густую, тягучую слюну. Жду визга тормозов, крика толпы….
Рядом бубнит какой-то полурослик, не затыкаясь, когда только успел подойти? Никто не обратил внимания на девушку, автобус стоит еще несколько секунд и отъезжает. На остановке остается толстая бабулька в розовом пуховике.
Показалось. Девушка просто зашла в автобус. Не было хрупкого тела под колесами, многотонная масса не вдавила податливую плоть в мокрый асфальт… Воображение гоняет тепло по моим внутренностям, стук сердца отдается в ушах.
Лишь этот бубнеж рядом… Я оборачиваюсь к парочке за моей спиной. Парнишка с выбритыми висками пыхтит какой-то дрянью с капсулой, даже не взатяг, гоняет сладковатый дым за щеками. В его руках сумка, с виду не отличить от бабской, на сумке значки с большеглазыми мультяшными девочками.
Я оглядываю спутницу коротышки с ног до головы, подхожу.
– Зритель? Или тоже выступаешь?
Она поднимает взгляд, чтобы лишь на секунду задержаться на моем лице. Отвечает тихо.
– Одна здесь? – Не смотрю на доходягу рядом.
Она что-то смущенно лепечет про друга и кивает на парнишку. «Друг» комкает в пальцах бычок, буравит меня исподлобья. По-прежнему делаю вид, что не замечаю.
– С удовольствием послушаю! Если понравится, с меня коктейль. – Улыбаюсь вовсю.
Девочка наливается пунцом. Никогда не клеили тридцатилетние дяди? Она и впрямь хороша, чистая кожа, пухлые губки, аккуратный носик. Бесформенная майка с «Риком и Морти» скрывает фигуру, но, судя по болезненно тощим ножкам в обтягивающих джинсах, там все печальнее.
– Какие вообще планы на вечер? – наседаю я.
Коротышка что-то там цедит сквозь зубы. Я резко поворачиваюсь к нему.
– Ты сейчас огрызнулся, или мне показалось? – Подхожу в упор. – Я тебе плохое сказал что-нибудь? Ты меня обидеть сейчас хочешь?
Куда ему, юродивому. Он едва достает мне до плеча, а чтобы сравняться в массе, надо наесть еще килограммов сорок. Несчастному остается лишь вяло оправдываться и бегать взглядом по моей груди перед самым своим носом.
– Так что, а? Сказать что хочешь, анимешник? – Я легонько шлепаю его пальцами по щеке, и он неуклюже отстраняется. Говорю нарочито внятно, не повышая голоса. – Я могу прямо здесь выдернуть тебя из твоих маленьких штанишек с подворотами и отходить по твоей маленькой заднице у всех на глазах. Ты этого хочешь? Будешь еще на дядю огрызаться?
Он затравленно озирается, но здесь ему не найти поддержки. Поэты выбрасывают окурки в мусорку и спешат вернуться в бар. Перерыв закончился.
Мне на плечо ложится тонкая ладонь. Девушка щебечет, извиняется за друга.
– Да шучу я, чего вы? – улыбаюсь я и примирительно хлопаю дрыщлявого по спине. Так, чтобы аж хрустнуло.
Подмигиваю новой знакомой и ныряю в дверной проем.
* * *
Я никогда не забуду ту ночь. Все началось со звонка, который меня разбудил.
Это повторилось в третий раз за последние полгода. Всего одна цифра рознит номер круглосуточной психологической поддержки с моим. Какая ирония: доведенному до отчаяния так легко промахнуться дрожащим пальцем мимо нужной кнопки.
Раньше я их просто посылал куда подальше, говорил, чтобы разули глаза, и набрали правильно.
Но в ту ночь пьяный мужской голос из трубки не дал вставить мне ни слова. Звенел в моей сонной черепушке, как чайная ложечка в граненом стакане. Дзынь-дзынь-дзынь…
Он все ныл и ныл, что-то о своей жене, о детях, о деньгах, конечно. Среди всхлипов и не разобрать было, а я даже не старался вникать. Взрослый мужик, судя по баритону, плакался мне в трубку, как мальчишка.
Возможно, будь на линии девчонка с дипломом какого-нибудь гуманитарного говно-ВУЗа, она бы смогла подобрать слова. Остановить этот нескончаемый поток. Но в ту ночь мужик ошибся всего одной кнопкой и попал на меня.
– Господи, да всем насрать, – сказал я устало и удовлетворенно отметил тишину в трубке. Как отрезало. – Как твоя баба терпела все эти сопли, а? Эй, маленькая сучка? Открой окно, душнила, и проветри. И лучше реши это по-быстрому, не донимай людей.
Несколько мгновений я вслушивался в тишину на линии. Следом донеслось шорканье, похожее на неуклюжие шаги и стеклянный звон, будто упала бутылка со стола. Мое терпение кончилось, и я нажал на кнопку сброса. Заснул с улыбкой на губах.
…О мужике, выпрыгнувшем в окно, написали в утренней сводке новостей. Бизнесмен, некий Борис, разорился во время пандемии, жена ушла и забрала детей. Пока я читал новость, холод медленно касался пальцев, будто пробуя меня на вкус.
Он? А что если выйдут на меня? Посмотрят последние вызовы, запросят запись разговора у оператора… Они могут? Даже если нет, вопросов не избежать.
Пока мысли набивали голову колючей стекловатой, холод поднимался выше по рукам, обвил локти, коснулся плеч.
Но ни через неделю, ни через месяц, меня никто не спросил. Похоже, на мужика даже после смерти было всем насрать. Я лишь озвучил общее мнение.
Холод отпустил. С тех пор его сменило непривычной тепло под самой грудиной, так похожее на голод.
* * *
Старая кляча вместо чтения стихов неуклюже начинает рекламировать свои сборники. Перепутала, видимо, творческий вечер с презентацией. Прокуренным голосом зачитывает содержание каждой книженции в мягком переплете, водит пожелтевшим ногтем по пестрым обложкам и рассказывает, как долго она добивалась именно такой цветопередачи и именно таких, вырвиглазных шрифтов.
Народ начинает зевать, а я напоминаю себе, почему торчу здесь вместо покера в каком-нибудь «Золотом Лисе». Поглядываю через плечо на девочку в майке с «Риком и Морти», она сняла капюшон, и выцветшие розовое волосы рассыпались по хрупким плечам. Дрыщ не убедил ее уйти. Хорошо.
– Извиняюсь, а вы не пробовали обратиться в издательство, а не в типографию? – Я поднимаю руку и сразу же добавляю на удивленный взгляд. – Не поймите неправильно, я слышал, что крошечные тиражи за свой счет лишь тешат самолюбие автора, а потом пылятся аккуратными стопочками на балконе или в гараже. Вы, как опытная, уважаемая поэтесса, пробовали издаться по-настоящему?
Старуха дергается и кривит губы, будто оса ужалила ее в лицо. В яблочко!
Она бормочет что-то невнятное про современных жадных издателей, и про то, что искусство не измеряется деньгами, и еще какую-то скукоту, спешно запихивая сборники себе в сумку.
До меня доносится неодобрительное шипение той самой девчонки с соплей под носом. Но я лишь улыбаюсь короткому смешку за спиной.
… Горькая дрянь из стакана допита, и я уже думаю, что в очередной раз уйду ни с чем.
А потом выходит она. Розоволосая подруга дрыща. И с первых строк внутренний жар сжигает остатки кислорода в легких.
Я не шарю в поэзии, во всех этих ямбах и хореях. У меня нет чувства ритма, я не знаю, за что ругают отглагольные рифмы. Но я слышу интонации и слова, которые впиваются в меня раскаленными жалами.
Никто из этих щенков не может написать про любовь по-настоящему, ведь для этого нужно выбраться из детского, отравленного гормонами мирка, уничтожить в себе половую истому. Все обрести и все потерять.
Мало кому доступно писать про смерть, избегая пошлости. Лишь тем, кого она коснулась, приобняла за плечи. Тем, кто не может забыть об этой встрече, грезит ею, одновременно обливаясь холодным потом.
Девочка в мультяшной майке может. Еще как.
… Я жду ее около гардероба.
– С меня коктейль, – говорю, заглядывая в глаза. – Как и обещал.
Ее полурослик топчется в паре шагов позади. Делает вид, что разговаривает по телефону.
Она долго не может решиться. Но не отказывает сразу, а значит – попалась.
Я продолжаю нахваливать ее стихи. Чтобы ни говорили, а похвала – самый надежный путь к молодым сердцам. Сравниваю с творчеством ранней Ахматовой. Не знаю, почему ранней, звучит солидней. Добавляю пару крылатых фраз Вольтера, на языке оригинала, естественно.
Девочка все чаще поднимает глаза от своих кислотно-желтых кед, искорки интереса подсвечивают ее зрачки. Она соглашается на коктейль.
От дохлика отделываемся быстро, он мямлит что-то, опустив голову. Давай домой, к мамке!
Девушку зовут Катей. Разговор за барной стойкой плавно переходит от искусства к путешествиям. Сыплю интересностями из своих поездок по Азии и Европе, делюсь планами заскочить в Штаты, как снимут с границ карантин. Стаканы с коктейлями пустеют и сменяются новыми.
Иногда девушки действительно любят слушать больше, чем пиздеть. Если знать, что говорить и как. Главное, не забыть потом выслушать в ответ.
Тепло не отпускает меня, концентрируется в одной точке, превращаясь в изжогу. Я пользуюсь моментом, когда Катя выходит в уборную, и поворачиваюсь к бармену.
– Ну что, каково оно в тысяча девятьсот четырнадцатом-то? Император, поди, здравствует?
Парнишка в белоснежной рубашке с закатанными рукавами непонимающе пялится на меня.
– Я спрашиваю, у нас снова сраный сухой закон? – Улыбка застывает на моем лице оскалом. – Еще раз разбавишь мое бухло или не дольешь не дай бог, я позову твоего менеджера, и мы вместе поищем тебе новую работу.
Не дожидаясь реакции, поворачиваюсь к вернувшейся Кате, улыбаюсь. Изжога неохотно затухает. Ненадолго, знаю я.
Мы переходим к шотам. Деньги трачу легко, но стараюсь не придавать этому помпезности. В таких вещах подкупает небрежность.
Алкоголь развязывает Кате язык, теперь ее очередь распинаться. Я узнаю про отчима – распускающего руки мудака, про отчисление из меда, переезд в столицу без поддержки и с дохлыми сбережениями, что остались от подработки официанткой и дедушкиного подарка на совершеннолетие.
Банальная фабула, да и чему удивляться, если все дорожки к смерти уже давно протоптаны.
Рукав Катиной майки задирается чуть выше, и я замечаю несколько выпуклых полосок на запястьях. Улыбаюсь своим мыслям. В принципе, на сегодня мне достаточно, леску нельзя натягивать слишком резко.
Но Кате впервые за вечер по-настоящему весело, она смеется невпопад и чуть не проливает последний шот себе на колени. Я предлагаю поехать ко мне.
В голове слегка гудит после выпитого, и лучше бы вызвать такси, но щегольнуть тачкой сейчас – значит закрепить эффект. Благо, ехать совсем близко. В просторном салоне Катя, кажется, даже на миг трезвеет и восхищенно осматривается. Да, милая, запах новенького «Лексуса» запоминается надолго.
… Темная фигура отлепляется от придорожных кустов буквально в сотне метров от моего дома и бросается под колеса. Бью по тормозам, одновременно выкручивая руль, в ключицу впивается ремень. Хваленые японские тормоза заставляют машину замереть практически сразу, повезло еще с пустой дорогой.
Мои руки вцепились в руль до побледневших костяшек, на миг даже показалось, что не смогу разжать похолодевшие пальцы без посторонней помощи. Тело бросило в жар.
Рядом, щурясь, испуганно озирается Катя – похоже, она успела прикорнуть на теплом сидении.
– Все нормально. Дебил какой-то влез… – отвечаю на ее вопрос, поглядывая в зеркало заднего вида.
Туда, где никого нет.
* * *
Второй у меня была Надя из Гродно. Или Гомеля? Вечно путаю.
Я нашел ее на сайте для анонимных неудачников под ником «GhostWriter». Не знаю почему, но сразу понял – с ней все получится.
То ли по тому, как она тянулась к адекватному общению, вдали от залитых помоями общих чатов, словно побитая собака к ласковой руке. То ли после ее стихов: корявых четверостиший без претензий на глубину, но порой с настолько меткими, колючими строчками, что поневоле перечитываешь по несколько раз.
Надя не умела писать стихи, но умела говорить о смерти.
Впрочем, за несколько месяцев общения мы перескакивали с темы на тему, как те парочки, что часами могут ворковать о чем угодно, пока не сядут батарейки. Я никогда не видел Надю, она так и не решилась отправить мне фото, стеснялась. Но засиживаясь до утра перед экраном, я и так узнал о ней достаточно. О проблемах с семьей, панических атаках и курсе антидепрессантов тоже знал.
С каждым днем она раскрывалась мне все больше. А я, даже давая напиться жаждущему, всегда помнил, что стакан остается в моей руке.
И когда однажды Надя написала «я тебя люблю», безо всяких вступлений, не добавив ни одного смайла, я, улыбаясь, почувствовал, как в ладони хрустнуло невидимое стекло.
Я не стал отвечать и пошел варить себе кофе. Постоял на балконе, покурил. Мне нравилось представлять Надю в тот момент, как она мечется по комнате, каждые несколько секунд подскакивает к компьютеру, чтобы обновить страницу, капельки пота блестят на кнопках мыши…
Выждав минут двадцать, я вернулся к клавиатуре.
«Сорян, но мне сейчас не до чьих-то бед с башкой. Девушки со справкой такое себе. Сама понимаешь».
Дожидаться ответа не стал, сразу удалил свой аккаунт и всю переписку.
Вернулся лишь через две недели, чтобы убедиться: Надя больше не выходила в сеть, и никто из общих знакомых по чату не знал, куда она пропала.
Мне нравилось фантазировать, что она с собой сделала. Тепло внутри будоражило, кипятило кровь, опускалось волнами приятной дрожи к паху, растекалось по ногам.
Иногда мне снится, как Надя стоит на пустом перекрестке, смотрит навстречу приближающейся фуре, и тяжелый гул, все нарастая, лупит по ушам…
После таких ночей я просыпаюсь особенно отдохнувшим.
* * *
Хожу между столами, пряча руки в карманы брюк. Менеджеры поворачиваются на офисных стульях, ловят каждое слово, каждое движение мускула на моем лице.
Вот они, мои цепные псы, мои акулы! Не все, конечно…
Нависаю над стажером.
– Почему ты положил трубку, Вадим?
Он вжимает голову в плечи, растягивает слова, будто сожрал пачку жвачки зараз.
– Что? – Прикладываю ладонь к уху. – Громче, Вадик! Ты с клиентами тоже так мямлить собираешься? Ме-ме-ме… Что говоришь? Клиент сказал, ему не интересно? Надо же. А ты спросил, что именно ему не интересно? Дополнительный доход?
Стажер мотает головой.
– А что ему интересно тогда, спросил? Впахивать на дядю интересно? Считать копейки, унижаться перед банками за издевательские кредиты интересно? Это спросил?
Вадик опускает глаза. Я поворачиваюсь ко всем.
– Не бойтесь разговаривать с клиентом. Больше вопросов! Достаньте уже головы из задницы и не бойтесь быть жесткими там, где нужно. Говорит, нет денег? Пиздит! Гляньте, какие тачки ездят в центре, и каждый скажет, что у него нет для вас денег. Хотите такую же тачку? Вам всего-то и нужно, что достать бабло из его кармана и положить в свой. Нищеброд живет на пенсию бабушки? Хорошо, это тоже заберите! Вы брокеры, мать вашу! Мы имеем процент всегда, в наваре наш клиент или рынок его поимел. Так пользуйтесь этим! Еще раз услышу, что кто-то кладет трубку раньше клиента – вылетите нахрен из моего офиса! Не умеете с людьми общаться, марш разгружать коробки. Все ясно?
Команда отзывается единым гулом. Я удовлетворенно смотрю на часы: из пятнадцати минут перерыва десять забрал, а за оставшиеся пять невозможно спуститься с двадцать седьмого этажа, покурить и вернуться обратно. Хорошо, значит, меня запомнят.
Выхожу из офиса, вспоминая Катю. Скучный секс и пробуждение под звон посуды на кухне. Ненавижу, когда кто-то копается в моих вещах или открывает мой холодильник. Но она приготовила завтрак, а это хороший знак.
Я подметил, что омлет подгорел, и не притронулся к тарелке. Объяснил, как добраться до ближайшего метро прежде, чем успел натянуть штаны.
Но прошло уже два дня, пора напомнить о себе. Качнул в одну сторону – качни в другую.
Уже держу телефон в руках, когда замечаю через окно мужика на балконе противоположного здания. Он перелезает через перила и замирает, глядя вниз, а я замираю вместе с ним. Мужик поднимает голову и, кажется, смотрит в мою сторону, хоть с такого расстояния меня нельзя заметить.
За минутой течет минута, пока в голове складывается правдоподобная, убедительная картинка. Легкие начинает щипать от недостатка кислорода.
– Давай, – выдыхаю едва слышно.
Мужик делает шаг и летит вниз.
Парковка внизу забита машинами, грязно-белый фургон мешает разглядеть место приземления, но выжить с такой высоты нереально.
Я колочу по кнопке лифта. Быстрее, ну!
Обычно мне нравится ехать в переполненной кабине. Нравится думать, что стоящие так близко даже не подозревают, кто рядом с ними. Кому они придерживают двери, с кем обмениваются дежурными приветствиями, кого случайно толкают плечом или наступают на ногу.
Они едут, погруженные в свои мысли и заботы, а я могу разрушить их жизнь в любой момент, просто начав разговор. Мне это под силу.
Ведь если человек силен настолько, насколько сильна его темная сторона, то я самый страшный ублюдок в этом лифте.
Но сейчас я с нетерпением расталкиваю медлительные туши и выскакиваю в холл, а затем и на улицу, чтобы увидеть. Пока зеваки не вызвали скорую, пока кровь не смыли растворителем и разбитое об асфальт тело не накрыли черным мешком.
Должен!
* * *
Были у меня и послушные, и на все готовые.
Всегда поражался таким бабам. Топчи их, бей, душу вымотай и сотри, как грубый ластик стирает грифельные следы – лишь добавки попросят. Роль жертвы, клеймо мученицы, все это как приправа: придает их жизни вкус. Пускай сами они никогда в этом не признаются даже себе.
Поначалу с такими даже забавно. Потом скучно.
Они не вписываются в мой замысел, их чаша терпения кажется бездонной, им никогда не пройти через уготованную им дверь, даже если я возьму их за шкирку и ткну в нее носом.
Нет, я ищу других. Чья чаша давно треснула, кто смотрел через замочную скважину и знает, что на той стороне. У меня есть для них ключ.
Я ищу их по надрыву голоса, по стихам, от чьих строк веет холодом могилы, по опустошенным взглядам в толпе. Ищу свои трофеи офлайн, чаты и звонки меня больше не устроят.
И нахожу Катю.
* * *
Спрыгнувший с соседнего здания мужик не выходит из головы. Нужно к кому-то обратиться. К психологу? Или сразу к нормальному врачу?
Я точно видел его, точно знаю, что не мог перепутать летящего камнем вниз человека с птицей или еще какой-нибудь фигней. Впервые тепло внутри меня не будоражило, как раньше, лишь обвивало липкой змеей диафрагму, мешая набрать полные легкие.
… Ключ проворачивается в замке раз и не собирается двигаться дальше. Моя дверь всегда закрыта на два поворота. Догадка бьет по темечку ледяными каплями, как в китайской пытке водой, пока я осторожно захожу в свою квартиру и разуваюсь.
– Ну нет, только не сегодня, – бормочу.
Он стоит в моей кухне, даже не сняв пальто. Жрет колбасу перед открытым холодильником, свободной рукой шарит по полкам. Достает длинными пальцами пару маслин и закидывает в рот.
Его выбритый подбородок блестит от жира, его седые волосы зачесаны назад, а на шее по-щегольски повязан изумрудный шарф из тонкого шелка. Перстни его отражают свет, как зеркала Архимеда.
Он спрашивает, продолжая жевать, почему я не брал трубку. Почему не поехал забирать его в аэропорт. Видимо, очередная старушка выставила за дверь очередной лазурной виллы. Как там звали последнюю? Франческа? Беатриче? Летиция? Нет, Летиция, эта высушенная вобла с прической под мальчика и любовью к огромным, как дверные ручки, серьгам, вроде предыдущая.
Рано или поздно все они понимают – этот престарелый франт только и может, что тянуть с них деньги. А мне давно пора забрать у него ключи…
– Я не слышал звонка, потому что ты в черном списке, – отвечаю я. – Очевидно же. Altre domande?
Он впервые поворачивается ко мне, подходит вплотную. Его цепкие пальцы хватают мой пах, сдавливают, и я со свистом втягиваю воздух. Старик смотрит на меня в упор, от его рта несет колбасой, от его глаз – разложением.
Он что-то говорит о маленьких яичках, которые забыли об уважении, но я не вслушиваюсь. Слезы текут по моим щекам, в бедра вокруг паха словно вгоняют сверла на малых оборотах.
Я мог бы поднять этого костлявого старикашку над головой и уронить головой о плитку, мог бы загнать его острые скулы ему прямо в мозг одним ударом. Но я лишь крепче сжимаю зубы и цежу:
– Здравствуй. Папа.
* * *
Я трижды бросал курить, и каждый раз давался сложнее предыдущего. Чем больше барахтаешься, тем сильнее вляпаешься, и если уж не вырвался сразу, резко, с болью, будь готов опуститься еще глубже.
Для Кати я стану той же зависимостью: болезненной, фатальной. Заменю ей воздух так, что она не заметит яда в легких. Буду ее раковой клеткой.
Прокачу на качелях: оттолкну и поймаю, снова и снова, и с каждым возвращением мой поводок будет становиться все короче.
– …Курсы дизайна? – говорю я с кривой ухмылкой. – Разве ты умеешь рисовать?
Она смущенно бормочет про свои успехи в художественной школе, перечисляет какие-то дипломы.
– Бумажки сейчас ничего не значат, их выдают направо и налево, – перебиваю со снисходительным тоном, который ее так раздражает. – И уж точно не помогут, если нет таланта.
Загнать человека в угол порой очень просто: привяжи его, обесцень и обезличь его прошлое и настоящее, закрой дорогу к будущему.
Я снял Кате квартиру, оплачиваю все ее хотелки. Ее друзья остались за границей «до»: рядом с мечтами о художественном и поэтическими посиделками два раза в неделю. Все ее стихи теперь посвящены мне.
Моя господская рука толкает качели.
… Я делаю вид, что бешусь по пустякам, провоцирую на ссору, несколько дней не выхожу на связь…
Качели вверх.
… Прижимаю ее к себе перед сном, шепчу то, что она хочет услышать, обещаю никогда не давать в обиду…
Качели вниз.
…Она находит на якобы забытом ноутбуке переписку с другой бабой, смеюсь ей в лицо…
Качели вверх.
… Новогодняя ночь превращается в сказку про Золушку в дорогом столичном ресторане: платье мечты, любимая музыка и восхищенные взгляды из-за соседних столиков….
С приходом весны улицы заливаются солнечным светом, но Катя тает, как мартовский снег. Ни дня без драмы, чаще срывы! Вот мой лозунг. Главное, быть непредсказуемым лабиринтом для растерянной девчонки, которая лабораторной мышкой бросается из угла в угол, даже не представляя, кто направляет ее электрическими разрядами в мозг, и куда.
Я представляю. Внутри меня пожар, он мечется голодным монстром, обжигая нутро. Чувствует – осталось недолго.
– Я тебя не люблю, – говорю однажды утром, одеваясь. – С тобой было весело трахаться, но… Ты стала какая-то скучная, что ли. Квартиру на следующий месяц я не оплатил, кстати, хозяин заскочит вечером. Отдашь ключи.
Я знаю, что идти ей некуда, знаю, что в кармане ни копейки. Хочется посмотреть на ее реакцию, но одергиваю себя – не сейчас, нельзя! Нужно свалить прежде, чем начнется истерика, как можно раньше оставить наедине с собой. Себе мы лучшие палачи.
Я спешно накидываю пиджак и направляюсь к выходу, но все идет не по плану, когда ножницы вонзаются мне в плечо.
* * *
Толстуха передо мной все никак не может определиться с сиропом к своему капучино. Кусает пухлые губы, мычит неразборчиво и пялится на вывеску позади бариста, в сотый раз пробегая поросячьим взглядом по ассортименту. Каштан, соленая карамель, мята… тьфу ты!
– Надо же, какой сложный алгоритм, – говорю в пустоту, но так, чтобы меня слышала вся очередь. – Сначала выбираешь, потом подходишь к стойке. Действительно, сложно запомнить последовательность.
Баба оборачивается, строит гримасу. Спрашивает, мол раз такой умный, что посоветую.
– Без сиропа. И абонемент в спортзал. – Развожу руками.
Толстуха огрызается. Никогда не понимал, почему кто-то вроде нее вообще смеет быть чем-то недовольным, высказывать мнение, высовываться. Им бы сидеть тихо, преисполненными благодарности, что здоровые люди не поднимают их на смех на каждом шагу и не гонят пинками. Так нет же.
Знавал я, правда, одного художника, любителя внушительных объемов, но такие извращенцы скорее исключение…
От перепалки с наглой бабой меня отвлекает появление Кати. Через стеклянную стену кофейни я вижу, как девушка входит в просторный холл, бегло осматривается и направляется к охраннику на пропускном пункте. Меня она пока не замечает. Плечо отзывается болью.







