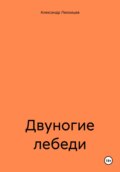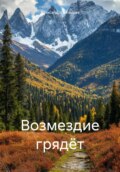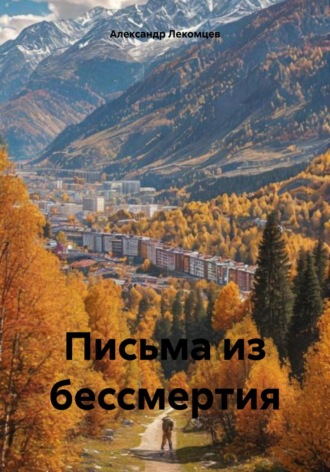
Александр Николаевич Лекомцев
Письма из бессмертия
После дождя
Около часа просидел Титлянов с удочкой на берегу Ангары. Дождь начал моросить, время вечернего клёва настало, но не берёт рыба.
Рядом с ним примостился рыбак молодой парень в штормовке.
– Всё в норме, – хлопнул он себя по коленкам, – теперь начнём заваливать берег рыбой. А у тебя, папаша, наверное, уже мешок под завязку.
– Да, – в свою очередь пошутил Титлянов, – вон в кустах стоит.
Титлянов искоса глянул на поплавок своей удочки. Мать честная, поплавок-то утонул. Выдернул из воды снасть. На крючке крепко завис крупный елец.
– Ого! – парень поднялся с места, – граммов на восемьсот!
– Таких ельцов не бывает, – Титлянов бросил рыбу в рюкзак, закинул удочку в воду, достал термос. – Чаю со мной не выпьешь, сосед?
– Чайку? Можно, – с готовностью согласился тот, вынимая из чёрного портфеля пакет с продуктами и алюминиевую кружку.
– Перекусим, а рыба от нас не уйдёт.
Дождь прекратился, и сквозь просветы рыхлых облаков пробилось лучами вечернее солнце. Потеплел ветерок с реки.
– Я понимаю, алюминий народному хозяйству до зарезу нужен, – парень сосредоточенно грыз кусок сала. – Но если налить в такую кружку горячего чайку, то руку можно обжечь. Не веришь? Вот подержи мою кружечку. Секунду не выдержишь.
Парень протянул её Титлянову, который просто сказал:
– Я, братец ты мой, уже восемнадцать лет с алюминием дело имею. Начинал на ИркАЗе электролизным расплавщиком солей, по существу, в качестве звеньевого. Теперь бригадир.
– Дело денежное. Я вот, понимаешь, слесарем был, проводником на «железке», охранником, а теперь грузчиком… А у тебя, папаша, дело выгодное.
– Да не выгоды я искал, голова садовая, – ответил в сердцах Титлянов, собираясь домой. – Не в ней суть-то, понимаешь.
– Конечно, уж не в выгоде, – проворчал парень, – а у самого, небось, жена сковородку накалила. С уловом ждёт. А ты без рыбы. Задаст же она тебе.
– Больной ты, что ли? – Титлянов взгромоздил на спину рюкзак. – Какая рыба?
У проходной завода пересказал он эту историю мастеру электролизного цеха Петру Ивановичу Елагину.
– Есть такие чудаки, Алексей Ефимович. Мало, но есть, – заметил мастер. – Из многих потом дельные люди получаются. Время их людьми делает. Но некоторые так ради этой самой выгоды остаются между небом и землёй. Для них после дождя солнца нет. Всё тусклый дождичек.
– И то правда. Однако, в душу он мне чем-то плеснул.
– В голову не бери. Некоторые такими и к нам на завод приходят. Так иные бегут. Жарко, мол, как в парилке. Ни денег не надо, ни льгот, – Елагин сменил тему разговора. – В бригаде у тебя всё нормально?
– Без брака пока, и сортность металла высокая, и сверхплановый есть.
– Дельно. Зайди к парторгу. Просил.
Пятый корпус электролизного цеха не мал, как и другие. Пока пройдёшь, не один раз остановишься. Полминуты, но поговорить с человеком надо, спросить, как дела. Для Титлянова незнакомых лиц здесь нет. Разве только новички.
– Здравствуй, Алексей! – к нему подошёл старший звеньевой бригады Анатолий Михайлович Докучаев. – Как рыбалка вчера получилась?
– Одного ельца взял. Вот и вся рыбалка.
– Раз на раз не приходится. Я вот тоже собираюсь сбегать, – он махнул рукой в сторону электролизной ванны. – А в смене полный порядок. Уровень в норме. Пены не было. Чисто идёт дело.
Докучаев – электролизник бывалый, уже двадцать пять лет стажа отработал. Но на заслуженный отдых не пошёл. Решил остаться в бригаде.
– Что я буду дома делать? Только телевизор смотреть да газеты читать. Остаюсь, мужики. Хоть и пенсия солидная, да не в ней дело. В домоседы не гожусь.
– Ты же рыболов заядлый, Анатолий Михайлович, – заметил профорг смены, звеньевой Станислав Михайлович Вантрусов. – Дома сидеть не будешь. У реки красота.
– Сам знаю, что красота. На это время у меня всегда есть. Посменно работаю. Остаюсь. Это решено.
Многим молодым Докучаев в своё время дал немало дельных советов, помог понять профессию, преодолеть к ней робость. У молодых электролизников она случается. С непривычки от такой высокой температуры то в жар, то в холод бросает. Теперь он сына своего здесь, в цехе, уму-разуму учит, пестует. Вячеслав в соседней бригаде подсобным рабочим трудится.
Титлянов тоже не сразу своё призвание нашёл. В молодости окончательный выбор трудно сделать. В 1952 году закончил в Чите ремесленное училище и стал слесарем судовых механизмов. Три года по специальности отработал. Потом служил в армии. Случилось ему как-то, после службы, увидеть празднование 25-летия Комсомольска-на-Амуре, как памятник В. И. Ленину открывали. И мелькнула у него тогда мысль поехать работать и жит в такой же молодой город, чтобы своим трудом славу его творить. Им для Титлянова стал Шелехов.
Парторг цеха Игорь Самсонович Гринберг встретил Титлянова в приподнятом настроении.
– Рад от души за твою девятнадцатую бригаду, Алексей Ефимович. По итогам полугодия в корпусе вы на первое место вышли. А по цеху – на второе.
– Что тут говорить, ребята довольными останутся. Стараться будут. Это почёт и премия, конечно. Кто же первым в цехе? Наверное, бригада Виктора Алексеевича Баженова?
– Баженова, – кивнул головой Гринберг. – Посостязайтесь с ними во втором полугодии.
– Попробуем, конечно. Правда коллектив у них сильный.
Гринберг выдал бригадиру листок с показателями. Титлянов знал, что они идут с опережением графика. Но ещё раз взглянуть на цифры не помешает. Выдано сверх плана 33, 8 тонны алюминия, сэкономлено электроэнергии 469, 2 тысячи киловатт-часов, материалов на 7,2 тысячи рублей.
Что говорить, совершенное, современное оборудование. Но главное условие сегодняшних успехов не только в ваннах. Звеньевые в бригаде добросовестные, болеющие за производство. Равнодушных нет. Поэтому и добилась бригада заметных успехов в труде, сплочённость им помогла, да и желание не отставать от других. Геннадий Иванович Кузнецов на заводе давно уже работает, но в бригаде Титлянова второй год. И уважение в коллективе быстро завоевал. В деле толк знает. То же можно сказать об опытном звеньевом Анатолии Енгировиче Киме. Девятилетний стаж работы у него за плечами.
Молодые также не отстают от своих более опытных старших товарищей. Сергей Журавлёв – работник неплохой, хоть и молодой по возрасту. Успевает многое. Секретарь комсомольской организации, без отрыва от производства учится в политехническом. А Сергей Белотелов уже закончил институт и, возможно, в ближайшее время станет сменным мастером.
Не так уж часто собираются звеньевые все вместе. Бригада в пять смен работает. Но как-то в перерыве общего собрания разговорились.
– Слушай, Александр, – Григорий Михайлович Шеметов подошёл к молодому звеньевому Гмырко, – я тебя как-то по телевизору видел. Хорошо поёшь.
– Голос поставлен, – поддержал Александр Григорьевич Кудрявцев. – Талант налицо. Ничего не скажешь.
– Стараюсь, – отшутился Гмырко.
Мужской ансамбль Шелеховского Дворца культуры «Металлург», в котором поёт звеньевой Гмырко, действительно интересный самодеятельный творческий коллектив. Алюминщики часто бывали на его концертах.
В бригаде коммуниста Титлянова ни один человек по характеру не похож на другого. Но работа объединяет, общие интересы создали из этих людей единый крепкий коллектив.
Для Алексея Ефимовича особенным был 1976 год. Тогда он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, ему присвоили звание «Почётный металлург».
– Понимаешь, Станислав, – делился он воспоминаниями с Вантрусовым, – тогда я до последнего момента не знал, что меня награждают орденом. А когда мою фамилию назвали перед собравшимися, вздрогнул от неожиданности.
Не только производственных забот, но и общественной работы у Алексея Ефимовича хватает. Он председатель товарищеского суда. Совсем недавно разбирали дело молодого рабочего. С дисциплиной у него слабо, да и в быту недостойно себя ведёт. Взыскание на него наложили. Обещал исправиться. Хорошо, если бы парень слово своё сдержал.
Знают Титлянова и как депутата Шелеховского городского Совета народных депутатов. Комиссия по торговле и общественному питанию, которую он возглавляет, работает активно.
На недавнем съезде профсоюзов работников металлургии в Москве, куда Титлянов ездил делегатом, выступающие говорили о тех новых задачах, которые выдвигает перед трудящимися отрасли время. Это – качество продукции, высокая производительность труда, внедрение новой техники… Этим принципам он и следует, как бригадир, и коллектив его поддерживает.
…День рабочий закончился. Только что дождь прошёл, на листьях деревьев крупные капли. Солнце появилось на синем небе. Настроение у Титлянова хорошее.
г. Шелехов
Газета «Восточно-Сибирская правда». 19 июля 1981 года, г. Иркутск
Подкова счастья
Около четверти века проработал в одиннадцатом кузнечном цехе завода тяжёлого машиностроения имени В. В. Куйбышева кавалер ордена Трудового Красного Знамени член парткома предприятия Пётр Константинович Романенко. Долго время он руководил одной из передовых бригад в цехе, с большим мастерством владеет многими профессиями.
Пришло время идти ветерану труда на заслуженный отдых , но он остался в цехе. Выполняя обязанности слесаря-наладчика, он часто заменяет машиниста молота, машиниста манипуляторов, кузнеца… Оказывает, как и прежде, помощь молодым…
В инструментальном цехе безлюдно не бывает. Здесь подбирается всё необходимое для мощных механических молотов, шум глухих ударов которых проникают сюда сквозь тяжёлую дверь, окованную толстым листовым железом.
– Кольца подобраны, Николай Селивёрстович, – докладывает Романенко начальнику цеха, вошедшему в «инструменталку». – В самый раз для трёхтонного молота.
– Вот и славно. Но я к тебе, Константинович, не за этим, – Шеков вопросительно посмотрел на Романенко. – Не поработаешь недельку кузнецом? На двухтонном сейчас никого. Кто, понимаешь, в отпуске, кто по больничному листу…
– Разве ж я когда отказывался? Сам же знаешь, с удовольствием заменю.
Другого ответа Шеков никогда не слышал ни от Романенко, ни от его напарника, тоже ветерана, слесаря-наладчика Юрия Васильевича Ознобихина.
– Завтра, Юрий, я снова кузнец, – сказал Романенко вошедшему Ознобихину. – Будет где погреться.
– Нужны мы цеху – это главное. Приятно, что ценят у нас старых мастеров. А помнишь…
Ещё бы не помнить. Когда Романенко пришёл на завод, Ознобихин уже работал, но тоже по существу только начинал осваивать нелёгкое кузнечное дело.. Это был конец пятидесятых годов, когда отечественное тяжёлое машиностроение начинало по-настоящему развиваться.
– Вот такие «подковки» мы здесь куём, парень, – бригадир-кузнец Дмитрий Фёдорович Романов показал ему рукой на раскалённую железную заготовку, весом более тонны, зажатую в специальных кольцах.
– И что же это будет? – с любопытством спросил Романенко.
– Всё делаем, – сдержанно ответил Романов. – Сейчас куётся деталь для драги. Наши «фабрики золота» по всей стране драгоценный металл добывают.
Два года Романенко пробыл подручным у Дмитрия Фёдоровича, постепенно вникая в суть дела. Научился работать и с поковками, и гигантскими слитками, переворачивать их специальными клещами.
– Что, Петя, тяжело? – приговаривал Романов. – Ничего не попишешь: тяжёлое машиностроение. Это тебе не сельская кузня.
– Там тоже сноровку иметь надо, – возразил Пётр. – Я-то видел. У меня отец – кузнец.
Не было лучше кузнеца в Золотоноше, чем Константин Петрович Романенко. Не только в родном селе знали его, как отменного коваля, но во всей Читинской области. Под его молотом рождались и подковы, и ободья, и гвозди…
– Присматривайся, сын, – говорил Константин Петрович, – авось, кузнецом будешь. Это верный тебе и кусок хлеба, и дело на всю жизнь.
Пётр соглашался с отцом. К нему люди не только с просьбами обращались, просили что-нибудь нужное и необходимое выковать, но и просто… за житейским советом. Он ведь добрыми словами, получается, немало людям пользы принёс. К нему прислушивались – и стар, и мал.
Кузнец на селе – считай, первое лицо. В его руках не только молот, но и в немалой степени и судьбы человеческие. Без преувеличения. От его труда очень многое зависит.
– Не подкуй вовремя лошадь, – объяснял отец, – она себе в миг на наших каменистых тропах копыта разобьёт. Здоровье лошади – в добрых подковах. А ежели ей хорошо, то и хлебопашец доволен.
Некоторые в Золотоноше, особенно молодые, прибивали на воротах своих домов подковы. Добрый знак. Добрая примета. Так-то оно так, но твёрдо знал кузнец Константин, что эта самая «подкова счастья» внутри самого человека должна быть. И ни один кузнец не сможет выковать её, только ты сам трудом своим, любовью к нему, к людям и земле, на которой живёшь…
Такими и хотелось видеть своих троих сыновей и дочь кузнецу Константину и жене Анне Прокопьевне. «Живи не так, как бог на душу положит, а как людям надобно», – говаривали они.
Девять лет было Пете и его сестрёнке-близняшке Тоне, когда началась Великая Отечественная война. А старшим братьям, Ивану да Степану, чуть поболее. Смотрел на детей кузнец Константин с какой-то собой любовью и вздыхал.
Выпал ему нелёгкий военный труд. На несколько месяцев в составе специального отряда уходил на самые опасные и непредвиденные задания.
…Много лет с того времени прошло. Довелось Петру Константиновичу в жизни немало городов увидеть, многим ремёслам научиться. Но когда приехал он в Иркутск, на всю жизнь связал свою судьбу с городом и заводом. Здесь он нашёл друзей, здесь пустил корни…
И стал Романенко кузнецом, как его отец, и выбор на сей раз для себя сделал окончательный. И начальство, и рабочие заметили, что парень в их цех пришёл толковый, работает на совесть, общественных дел не сторонится. И отец его довольным был.
– Я ж тебе говорил, что кузнецом станешь. Надо было бы сразу у меня учиться. А ведь подковы ты так и не научился ковать.
– Не научился. Мои «подковы» – по тонне и более. Бригадиром мне быть предложили. Как думаешь, соглашаться?
– И сомневаться нечего, если доверяют.
Ознобихин в то время тоже руководил бригадой. Тут уж каждый старался друг перед другом в грязь лицом не ударить. Оба старались, и оба были в почёте.
Время шло, и приходили в его бригаду новички, которых он кропотливо обучал мудрёному ремеслу, как и его в своё время. Не все задерживались в цехе надолго. Что ни говори, иметь дело с раскалённым металлом не каждому под силу. У иных к этому особого желания нет, для других – «орешек не по зубам». Но теми, что остались в цехе, Романенко доволен. Его бывшие ученики вовсю «крутят» трёхтонными и двухтонными молотами. Да и техника уж не та, «расшевеливать» её помогают механические манипуляторы.
Бригаду, которой руководил Романенко, теперь принял его ученик Анатолий Викторович Михайловский. Лет восемь назад он начал с подручного кузнеца, теперь хорошо знает много смежных профессий. Заочно учится на четвёртом курсе политехнического института. А коллектив его, обслуживающий трёхтонный молот, один из лучших на заводе.
Другой его ученик Виктор Степанович Селюк заменил Юрия Васильевича Ознобихина. Достойный преемник опытных мастеров, ветеранов труда.
Два года тому назад Пётр Константинович Романенко , как победитель социалистического соревнования ездил в Москву. За высокопроизводительный и качественный труд имеет множество поощрений. Да и, кроме того новатор и рационализатор. Экономии металла в кузнечном цехе уделяется немало внимания.
– А если нам изменить градус наклона слитка под молотом, – однажды сказал Романенко начальнику цеха. – Выброс металла намного сократится.
Шеков взял чистый лист бумаги, произвёл расчёты.
– Действительно, сократится, – подтвердил он, и объём должен уменьшиться.
Так оно и получилось, с экономией металла возросло качество ковки.
Это только один случай из рационализаторской деятельности Романенко, но он характерный, потому что подобных за долгие годы было немало.
Сейчас бывшие его ученики, которым он привил любовь к «огненной профессии», ведут новаторский поиск. Это и машинист молота Анатолий Шумков, бригадир кузнец Анатолий Михайловский и очень многие в цехе.
Характерна для Петра Константиновича хозяйская черта. Она в думах о выполнении государственного плана, в заботе о повышении качества продукции, о молодых рабочих. Как и прежде, идут к нему за советом начинающие подручные, кузнецы, машинисты молотов. И он делится с ними своим богатым опытом.
Два взрослых сына у Романенко. Старший Константин Петрович, полный тёзка деда-кузнеца, закончил культпросветучилище, режиссёр, учится заочно во ВГИКе. Младший, Юрий, в рядах Советской Армии.
«Тысячу раз был прав отец, когда говорил, что человек сам строит свою судьбу и подкова счастья должна быть внутри его, где-то под сердцем, – подумал Пётр Константинович, наблюдая тем, как колышется красно-фиолетовое пламя в огромном горне. – Так оно и есть».
Он близко подошёл к работающему молоту. С каждым ударом раскалённая болванка меняла свою форму, на глазах превращалась в одну из деталей будущего волочильного стана.
Газета «Восточно-Сибирская правда», 26 сентября 1982 года, г. Иркутск