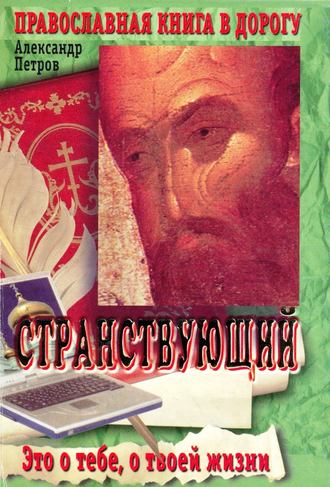
Александр Петров
Странствующий
Ой, блаженный этот путь —
Куда страннички идут.
В Русалим они идут,
А их Ангелы ведут.
Старинный кант
Панорама
Итак, фирма обанкротилась, и меня отпустили в бессрочный отпуск, что равноценно увольнению. Дома на столе обнаруживаю записку, из которой следует, что Принцесса покинула этот трехкомнатный кооперативный дворец и когда вернется, да и вернется ли вообще, – неизвестно. Пропали также «Нива» из гаража, компьютер со стола и все наличные семейные сбережения.
Если оглянуться назад, можно вспомнить, что меня заботливо готовили к этому перелому. Например, работаешь себе, работаешь, и вроде бы всё ничего – только начинает вдруг томить абсурдность прожитого дня. Ради чего работаю? Ради зарплаты – и только? И моя белая сорочка кажется черной и вовсе не благоуханной… И компьютеры на столах предстают вампирами, сосущими здоровье и время. Ненароком долетит до ушей болтовня сотрудников, – а там пирушки, развлекушки, девчушки… Потом приходишь домой. Что-то жуешь, делаешь домашние дела, говоришь по телефону с чуждыми, но «нужными» людьми. Возьмешь книгу. Почитаешь на диване про подвижника, который когда-то давно возносился в молитвах над землей, ходил по воде, как по суху; воскрешал мертвых, спал по часу в день урывками… – и думаешь: какое отношение это имеет ко мне? И зачем читать, если не на пользу?
…И вдруг – мысль, как удар: в это самое время где-то рядом живые монахи распинаются за гибнущий мир, умирая «на каждый день»; вчерашние столичные профессора и художники в комариной глуши возрождают храмы, а по дорогам Руси Святой шагают странники… И вскочишь с дивана, взлохматишь прическу, просипишь, бия себя в грудь: «Доколе! Почему это мимо?» – да и обратно сядешь…
И вот свершилось… Сам же хотел, чтобы эти «тараканьи бега» кончились. Чтобы серое существование сменилось чем-то живым и новым. Что ж это я так переполошился? Ведь именно сегодня я стал свободным. Лопнули разом все путы, державшие меня на привязи. Мне бы радоваться, прыгать до потолка – но этого нет. Свобода привела с собой неразлучную спутницу – ответственность. Вчера я мог сказать: хочу, но не могу, потому что у меня есть обязанности. Пусть условные, но обязанности – это, как ни крути, уважительно. Сегодня – свобода. И отныне делать надо то, что надо. Никуда не денешься.
Издавна видел я себя странником. Идти по дороге, куда глаза глядят, откуда веет свежий упругий ветер надежд – вот чего желает моя душа! Хочется встреч с разными людьми. Отчего-то нужно мне обойти дальние страны, побывать на всех материках, на всех широтах. «Земную жизнь пройдя до половины», не увидеть тундру и тайгу, саванны и прерии, фиорды и каньоны, пустыни и солончаки – это неправильно. Если существует где-нибудь все это, а я – здесь, то мы просто обязаны сойтись в одной точке.
И это еще не все! Меня связывают оковы времени. Не устраивает ограниченное текущее мгновение. Не меньше настоящего интересны прошлое и будущее. И если время – это условность, то надо попробовать ее преодолеть.
Однажды в детстве во время осмотра Бородинской панорамы меня озарило нечто великое. Настолько огромное, что обозреть и вместить это в свое малое сознание оказалось невозможным. Так же, как это огромное полотно вокруг, и все события, на нем изображенные. Если обычный живой человек, художник, сумел охватить такое количество людей, событий, дальних и ближних планов, то, значит, возможно выйти за границы пространства и времени. Допустимо это – с помощью каких-то сил, дополняющих слабые возможности человека.
Помню, стоял в оцепенении среди бредущих по кругу людей и видел вокруг себя не рисованные маслом картинки, не пыльные макеты и куклы, не холст, изображающий небо – не эту условность, нет. Передо мной явилось бесконечное поле реальных событий, которые происходили с древности до необозримого будущего.
Открылось это на краткий миг. Блеснуло – и прошло. Озарило, потрясло – и… занавес упал. Почти ничего в памяти не осталось. Только неописуемый восторг от созерцания грандиозной высоты и неохватной глубины в золотистом сиянии восхода. Зачем? Где это было? И где это есть? Какое отношение имеет ко мне?
Хочу туда! Отныне тесно мне земное время. И это плоское, как раскрашенный холст, пространство теснит и давит. Тот, кто приоткрыл занавес, пусти меня туда!
Как все хорошее, завершилось откровение грубым толчком в спину и ворчливым – «встал, как пень». Потом довольно быстро действительность втянула меня в свою муравьиную суету. Я не противился. А чуть позже сознательно связал себя узами множества ненужных «надо» и капризных «желаю». Прошло немало времени с тех пор. Лишь изредка блеснет из детства луч панорамной свободы, позовет, обнадежит – и обратно в темницу.
И только сейчас мое давнее желание свободы начинает сбываться. Для чего? Не для странствий ли? Посмотрим.
Начало пути
С утра пораньше с легким рюкзаком выхожу из опустевшего дома. Передо мной лежит асфальтовый тротуар, рассеченный трещинами, в озерах мутных лужиц. А я вижу, как вдаль несется и зовет путь странствий.
Это у меня впервые – вот так сжечь мосты и пойти куда глаза глядят. То страх, то радость закипают в жилах. То уныние накатывает черной волной, то отлив и – надежда на лучшее крепнет в груди.
Кто я сейчас как не пылинка в бурном океане? Где привычный порядок моей жизни? Что у меня осталось, кроме веры? На что надеяться, как не на Промысел Божий? Откуда ждать защиты, как не от Покрова Пресвятой Богородицы? Кто мой друг и кто попутчик, как не Ангел-хранитель?
Вокруг меня постылый город обступает сонных пленников безликими бетонными коробками. А я, наконец, проснулся бодрым и свежим. И бессмысленность рухнула. И жизнь во мне обновляется.
Ничего наперед не знаю. Планов – никаких. Полностью полагаюсь на волю Провидения. Шагаю с легким сердцем. Таинственная Панорама из детства словно оживает. Где-то в ее начале происходит сотворение вселенной. И это вполне созвучно началу пути. И сотворению моей новой вселенной. Что такое моя личная вселенная? Всего-то полсотни человек, с которыми общаюсь, да несколько мест, в которых случается бывать. Надеюсь, отныне моя вселенная вырастет. Как растет она сейчас в моей незримой глубине. Как расширяется она в космическом масштабе, что не устают напоминать астрономы, размахивая снимками заумных «красных смещений». Ну, да ладно…
Мало-помалу вихрь мистических ощущений стихает. Оглядываюсь и обнаруживаю себя под землей, внутри грохочущего вагона метро. Народ жмется друг к дружке в отдалении, я же стою на просторе – хоть вальс танцуй. И тут в ноздри ударяет едкий кислый запах, и тошнота подкатывает к горлу. Оглядываюсь: вокруг меня – спереди и сзади – на лавках лежат вразвалку бомжи. И спят. Наблюдаю в себе острое желание зажать нос и отодвинуться подальше.
С трудом заставляю себя остаться на месте и разгладить лицо, которое, должно быть, скривила брезгливая гримаса. И тут вспоминаю, что и сам я отныне бездомен, и отвращение сменяется сочувствием. Выходит, что и я в любой день могу стать таким же. И от меня станут отворачиваться домашние мальчики и девочки, едущие с гувернанткой в парк на итальянские аттракционы, зажимая носики надушенными батистовыми платочками.
Господи, не дай мне вознестись над этими несчастными! Ты, сотворивший вселенную, Сам не гнушался возлегать с проклятыми мытарями и прокаженными, не брезговал бесноватыми и увечными. Не отвергал ни грязных, ни покрытых струпьями рук. Ты возлегал на трапезе с людьми и удивлялся: Бог посылал Иоанна, который ни ел, ни пил – его не приняли. И вот Ты пьешь и ешь с изгоями и богачами – снова людям не так. Ты на Себе узнал, что есть презрение и бездомность. Эти несчастные забыты всеми, но только не Тобой. Спаси их, Господи! А мне – не дай иметь к ним отвращение.
Нечистый запах уносит ветерок, пахнувший из окна. Один из бомжей в искусственной дубленке – это летом! – открывает заплывшие глаза и сонно протягивает мне красную ладонь в черных разводах. Кладу монету, невольно касаясь руки, но брезгливости нет. Рука бездомного с монетой ложится в карман, глаза закрываются. Помоги вам Господь. Двери открываются, и я схожу на своей станции.
Остается позади шум и тряска, толкучка и разговоры. Перехожу шоссе и по асфальтовой дорожке направляюсь вглубь фруктового сада. На смену суете приходит мерный ритм ходьбы. Поэтому, успокоившись, вполне справедливо задаю себе вопрос: а не обман ли это? Нечто похожее случалось со мной весной и оказывалось западней.
Весна – это всегда гормонально-пьяный обман. Весной и в начале лета кажется, что жизнь впереди, и небо такое безоблачное и голубое, и ты весь такой вытянутый вперед-вверх… И в мозгу, воспаленном солнечной радиацией, взрываются одна за другой вспышки миражей. И сердце отзывается на истошное верещанье воробьев и прочей пернатой мелочи.
Будущее кажется искряще-сияющим и ароматно-ванильным. И горизонты распахнуты и широки, как пути, ведущие… в большое земное счастье. И проблемы стремительно умаляются. Только все это обман, который проясняется с наступлением холодов. Тогда трезвеешь, и вновь приходит печаль о совершенстве, которое на земле недостижимо. Отсюда вывод: влюбляться лучше поздней осенью, а умирать – весной, на Светлую седмицу.
Восторженность – учит вековая мудрость – прямой путь к отчаянию. Так что когда впадаешь в весеннее опьянение – сеешь будущее уныние и разочарование. Итак: трезвое спокойствие.
Когда оглядываюсь на прожитое, то оказывается, что покатился я в пропасть именно в весенние года и в весеннюю пору. Чудом, великим Промыслом Божиим, остановился… Это ведь, чтобы удержать на краю, показали мне во сне то место ада, куда я так упорно катился в безумно-пьяные годы! А как увидел шквал ревущего огня и злющие красно-зеленые глаза, услышал вопли соседей по огненному озеру, вдохнул серные миазмы, всем существом ощутил беспощадное зло, безнадежность, ужас… – так и в церковный ковчег вошел. Нет, вбежал, запыхавшись, оглядываясь в страхе через левое плечо за спину… Выходит, живу как бы вторую жизнь, дарованную мне чудесным образом. И обмануться сейчас, когда желанная свобода сбросила с меня оковы суеты, было бы непростительно.
В то же время, знаю точно и верю словам афонского старца Софрония: «не попустит Господь заблудиться человеку, который воистину не лукавствует пред Ним».
Вестники
Итак, размышления по дороге приводят меня сюда. Кто-то скажет, ничего в месте этом странного нет, и будет прав. Среди бетонных коробок шестирядным шоссе к высокому берегу реки прижато царское село. Внутри крепостных стен стоит тишина. От тишины поначалу звенит в ушах, потом привыкаю.
Бреду по траве среди вековых лип и тополей. Обхожу сидящих и лежащих на упругой траве людей, греющихся на солнышке. Меня обступают огромные дубы, которым более шестисот лет. Их корявые ветви в опушении нежно-зеленой листвы басовито поскрипывают высоко в синем небе. Задираю голову до головокружения, ноги подгибаются и укладывают меня на сочную траву, присыпанную прошлогодними жестяными листьями. Невдалеке белеют царские палаты, трапезная с маленькими оконцами в стенах метровой толщины. По другую сторону рубленая изба, из толстых сизых бревен. Стоит трехсотлетним крепышом, как немой укор поклонникам технического прогресса. Прикрыв глаза, впитываю старину. Вдыхаю парной аромат скошенной травы. Слышу мягкий шелест юной листвы, далекое поцвиркиванье птичек и приглушенный детский смех.
– И как вы только здесь живете, – раздается необычный голос. Он не звучит, но слышен. Будто «тихо сам с собою, я веду беседу».
– Да вот так и живем. Каждый по-своему, – отвечаю незримому собеседнику. – А ты сам откуда?
– Отсюда, только на несколько веков раньше.
– Тогда что же тебя удивляет? Здесь почти ничего не изменилось.
– Воздух у вас тяжелый. Все вокруг отравлено каким-то ядом.
– Это точно, – соглашаюсь. – Сам удивляюсь, как выживаем. Послушай, а ты сейчас где: там или здесь?
– Точно не знаю. Скорей всего, и там и здесь. А может быть, ни там, ни здесь, а где-то посередине. Да ты сам подумай, разве я смог бы дышать вашим воздухом? Лежать на вашей траве? Пить вашу воду?
– Ты еще добавь: «облучаться вашей радиацией».
– Это вообще для меня смертельно.
– Не забудь и наше телевидение, прессу, рекламу.
– Этот Содом и вспоминать не хочу. Огнем бы все пожечь!.. Ох, прости.
– Ничего. Это желание ежедневно у всех нормальных людей возникает. А я смогу жить в твоем времени? Как ты думаешь?
– Скорей всего нет. У нас много кислорода. Ты бы им отравился. Помнишь, как у тебя болела голова, когда ты приезжал в деревню впервые после зимы? Только у дымного костра и отходил.
– А как же мы с тобой говорим сейчас? У нас и язык должен быть разный. Тебе положено говорить: сице, непщевати, углебати, усыренный, обаче…
– Примерно так я и говорю. Но между нами переводчик. Наверное, это Ангел. Эй, а ты хоть знаешь, кто такие ангелы? А то, может, вы уже и в ангелов не верите?
– Некоторые верят. Я тоже.
– Значит, ты не совсем пропащий. Тогда спасайся. Время не идет – оно летит. Спасайся, брат. И помни: «Путь человека – есть путь из бездны».
– А если я в эту бездну все-таки упаду?
– Значит, встанешь, отряхнешься и снова – вверх. Помни, что сказано в «Пастыре» Ерма: «Не бойся, Бог или сокрушит сердце твое, или кости твои». Ты в руках Божиих – не бойся.
Открываю глаза. Рядом никого. Жаль. Мне еще столько нужно сказать собеседнику из прошлого, да и расспросить о многом. Впрочем, что это я? Не слишком ли доверчив? И тут вспомнилось кое-что.
В годы своего неофитства, начитавшись святителя Игнатия Брянчанинова, любил я, помнится, навешивать ярлык – «прелестник». Чуть кто думает не по-моему, слишком возвышенно, что не вмещало мое суетливое сознание – на нос ярлык! Но однажды, Господь послал мне вестника для вразумления.
Случилось это на старой квартире. Заходит ко мне в гости соседский мальчик. Никогда раньше его не замечал: мало ли детей бегает по двору. Этот Лёня к тому же какой-то невзрачный, болезненный. Ну, одолжил я ему дрель и повел провожать к двери. И тут он иконы мои увидел и разговорился. Оказывается, он тоже верующий, а имя его настоящее Пантелеимон.
– Что же, – спрашиваю, – ты у своего небесного заступника здоровья не выпросишь?
– Что ты, дядь Тихон, – вздрогнул он даже, – моя болезнь – это все что у меня есть. Это дар Божий. Когда я терплю боль и унижения, то чувствую, что спасаюсь. А если их не будет, что тогда останется?
Слова мальчика, признаться, меня удивили. Может, потому, что сам был здоров. А, может, потому, что вера моя жила больше в голове, чем в сердце. В тот вечер мы долго с ним беседовали под чай с печеньями. Узнал я, что мальчик по причине болезни и своей православной «инакости» одинок. Более того, терпит насмешки и унижения от сверстников.
– Хочешь, я по-мужски поговорю с мальчишками? – спрашиваю, указывая подбородком в сторону боксерского мешка с перчатками.
– Что ты, дядь Тихон, – снова вздрагивает он, – не надо.
И снова я посрамлен мальчиком. И здесь он оказался опытней меня. Смотрел я на него, а в душе моей боролись два противных чувства: жалость к его фиолетовым нитяным жилкам, проступающим сквозь тонкую кожу, и уважение к его твердой вере. Болезненная истонченность давала ему прозрачность для проникновения силы Божией. Вспомнились слова из Послания Коринфянам апостола Павла, которые до сих пор не понимал: «…Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи».
– Да ты за меня не волнуйся, дядь Тихон, – прочел он мои мысли, – у меня есть друг. Настоящий, верный! И охраняет он меня лучше, чем президента «вся президентская рать».
Тогда по телевизору показывали фильм с таким названием, в котором клеймили и разоблачали «порочные нравы загнивающего запада». Мы в унисон хмыкнули.
– Это что же за супермен такой?
– Ангел-хранитель.
– А-а-а, ну это ты в прелести, – вешаю привычный ярлык.
– Щас! – мальчуган сорвался с дрелью подмышкой и убежал. Вернулся с книжкой «Размышления христианина, посвященные Ангелу-хранителю» и прочел: – «Хотя мы не можем видеть Ангела телесными очами, но можем видеть очами веры. Ужель мы столько порабощены чувствами, что не хотим верить ничему, кроме того только, что нам является под грубым видом вещества! Или сердце ваше столько занято суетами мира, что ничего не любит, кроме богатства и удовольствий?»
– Ну, хорошо. Только разве можно дружить с невидимым духом? Ведь с друзьями принято общаться, советоваться, делиться радостью и бедой.
– Можно, – уверенно кивает мальчик. – Надо только научиться говорить с ним. Вот: «Ты скажешь: как можно беседовать с Ангелом, когда невозможно слышать его голос? Эта таинственная беседа заключается не в вещественных звуках человеческой речи, но во внутреннем голосе сердца, проникнутого верою в невидимое присутствие Ангела-хранителя, в его благость и мудрость. Эта беседа требует чистоты сердца, обращенного к нему со смирением и молитвою… Когда голос Ангела проникнет в твое сердце, ты услышишь беседу: он будет говорить тебе о правоте, о чистоте душевной, о целомудрии, о благотворительности, о милосердии, о любви к ближнему, о благочестии; сердце твое исполнится умиления и насладится душевным миром.»
– Но ведь ты знаешь, Лёнь, существуют и ангелы падшие. С ними тоже ненароком можно вступить в контакт. И тогда… это… прелесть, – с трудом выдавил я любимое словцо.
– А здесь и об этом написано: «Злобный враг рода человеческого станет, напротив, возмущать твое спокойствие, станет прельщать ум твой богатством, роскошью, почестями; не внимай обольщениям его…» И потом, дядь Тихон, – улыбается он, – вы причащаетесь?
– А как же! Какой же я без этого православный!
– Видите! Значит, и канон Ангелу-хранителю читаете. А там в молитве вы говорите: «Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле…»
– Да уж, Пантелеюшка, сдаюсь на милость победителя, – поднимаю руки, а про себя думаю: «Трепещите, враги Православия! Экое племя растет, «младое да незнакомое»! Это вам не наше поколение пьяниц гитарно-кухонных».
После того разговора я, действительно, пытался общаться с Ангелом, и даже что-то получалось… Во всяком случае, несколько советов я не только сумел получить, но даже реализовать. Только эта суета… эти вечные проблемы очень скоро свели на нет мои усилия. Увы, катиться с горы всегда проще, чем подниматься.
Но сейчас у меня все по-другому! Я в таком положении, в таком состоянии, – что мне никак без могучего «друга, предстателя и защитителя» не обойтись. Поэтому сбивчиво и «неканонично», но искренне, как могу, прошу Ангела помочь мне.
– Ангел-хранитель мой святой, я сейчас, как щепка в море. Как не утонуть? Как успокоиться? Что делать?
И замолкаю. В наступившей мысленной тишине, через двенадцать гулких ударов сердца во мне звучит:
– Чтобы не утонуть в море, войди в корабль. Храм – твой корабль. Зайди в него, помолись и возьми благословение.
Нет, это был не голос, воспринятый слухом! Я будто сам мысленно произнес эти слова. Но я узнал! Узнал голос моего давнего друга и наставника, защитника и молитвенника. Неужели, действительно, началось мое возрождение? Вспоминается самое лучшее, что было, и самое полезное.
– Божий вестник, как мне избавиться от страха перед будущим странствием? Как научиться не оглядываться назад? Как перестать жалеть оставленный комфорт и порядок жизни?
– Тогда взгляни на будущее. Оно уже происходит. Взгляни духовными очами. Ты готов?
– Да.
И вдруг отодвигается невидимый занавес. Панорама открывает крохотный мазок на огромном полотне. Или это с моих глаз спадает мутная пелена? И я вижу то, что… есть.
На месте бетонных домов – безглазые руины с горами щебня. Столетние деревья горят, объятые огнем. Тысячи автомобилей – там и тут – валяются обугленными скелетами. В прежнем русле Москвы реки течет огненный поток. Земля содрогается и покрывается трещинами, из которых выплескивается гудящее жадное пламя. Безумные люди и животные мечутся с дикими воплями, падая в огненные трещины. Птицы черным угольным градом сыплются с небес. А сами небеса объяты багровыми клубами огня и жирного черного дыма.
– А кто же спасается? – спрашиваю.
– Смотри.
И тут мне открывается, как над всеобщим безумием огненного шторма – белыми кораблями плывут дивной красоты церкви. Они несравненно красивее и совершеннее тех каменных строений, которые мы посещаем. Я, кажется, понимаю: это храмы Небесного Иерусалима, земными проекциями которых являются наши. Внутри белых кораблей стоят люди и с радостью возносят молитвы Господу. Это дети Царствия Небесного. Они члены Церкви Христовой, которую «не одолеют врата ада», сжигающего неверных огнем. Сейчас мне предельно ясно: только православные имеют истинную радость – великую радость спасения во Христе.
После таких откровений не нужно меня тащить в храм. Я вхожу в него, как в небесный корабль, где даже пыль под ногами свята. Перед литургией прихожане пишут записки и ставят свечи. Как все это с виду буднично… Тихо и спокойно… Обхожу старинные иконы. После поклона и приближения каждая икона тысячами молитв говорит со мной. Существует слово «намытый» – это что-то свежее, сияющее, у мамы на руках, с румянцем во всю щеку. Здешние же храмовые иконы «намолены» – это когда впитавшие в себя тысячи молитв, поклонов, целований святые образы делятся с тобой теплым незримым светом, от них исходящим.







