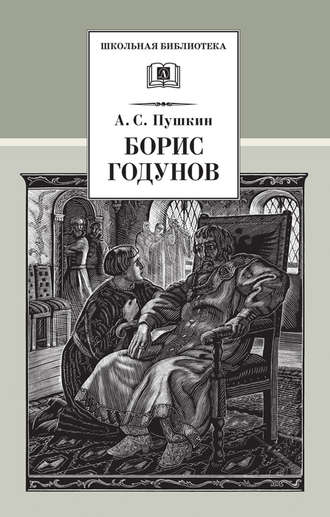
Александр Пушкин
Борис Годунов
© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2002
© С.М. Бонди. Вступительная статья, наследники
© Д.Д. Благой. Примечания, наследники
© В.А. Фаворский. Гравюры, наследники
* * *
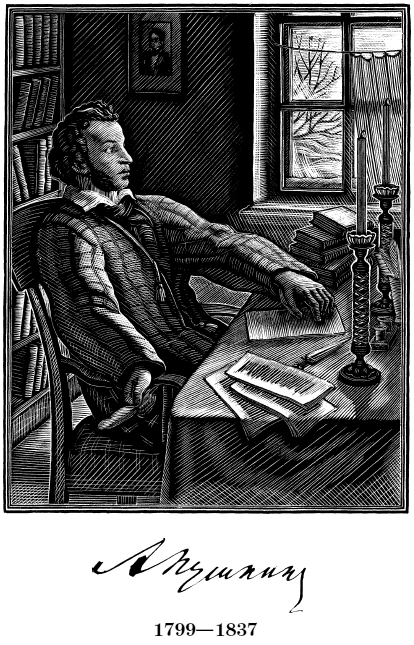
С. М. Бонди
Драматургия Пушкина
Трагедия «Борис Годунов»
В конце 1824 года у Пушкина возникает замысел трагедии шекспировского типа («романтической» в пушкинском смысле, то есть свободно созданной, игнорирующей все правила поэтики классицизма).
Драматическая, театральная форма в эту эпоху оказывается для Пушкина наиболее адекватной формой для нового, объективного, реалистического изображения жизни. Здесь Пушкин мог создать произведение, в котором не видно было бы автора, без тенденции, без лирики… Рядом с такими произведениями, как средние главы «Евгения Онегина» и «Граф Нулин», где уже вполне торжествует реалистический метод, но где все же ярко выраженный лирический или иронический тон выдает автора-рассказчика и его отношение к описываемому им, – рядом с этими произведениями возникает трагедия «Борис Годунов».
Тема нового драматического замысла подсказывалась Пушкину его отношением к театру, к его задачам. Это отношение оставалось тем же, что и раньше: театр как наиболее непосредственно и мощно действующее искусство привлекался для разрешения тех же общественных, политических проблем. Но разрешать их он должен был совершенно иными методами.
Размышления Пушкина о причинах неудач революционных восстаний, о решающей роли народа в судьбе революции, о царской власти и причинах ее силы и слабости, о социальных силах, движущих историю в ее критические моменты, – вот вопросы, разрешавшиеся в новой трагедии на историческом материале. События русской истории конца XVI – начала XVII века, о которых Пушкин, прочитав Карамзина, говорил: «Это трепещет жизнью, как вчерашняя газета»[1], давали прекрасный материал для широкой постановки проблем в аналогичных исторических условиях.
Изображение событий жизни без всякого схематизма, без рационализирования, во всех часто неожиданных противоречиях Пушкин нашел у Шекспира, нашел воплощенным то, к чему он пришел сам в своем творчестве, – стремление отойти от грубой тенденциозности, от метода проведения той или иной идеи, «любимой мысли» или устами действующих лиц, или каким-либо иным событием в угоду этой мысли, искажающим живую, подлинную психологическую или историческую реальность.
Стремясь взглянуть в своей драме на события «взглядом Шекспира», Пушкин, конечно, принужден был совершенно изменить свою драматургическую манеру. Вся система трагедии французского классицизма с ее стройным течением и строгими условностями – система, столь подходящая для резко «тенденциозных», почти агитационных замыслов предшествовавшего «декабристского» периода, здесь оказалась непригодной – и Пушкин пустился в открытое море свободной драмы, законы и правила которой определялись только требованиями художественной выразительности и реалистической правды. Пушкин располагает свою трагедию «по системе отца нашего Шекспира».
Подобно Шекспиру, он дает своим героям свойственный «вольному и широкому изображению характеров» способ выражения, свободный и разнообразный, по мере надобности то торжественный, то простой и грубый, в отличие от «жеманного» и «напыщенного» языка французской трагедии.
От Шекспира Пушкин берет и совершенно естественное в этой системе совмещение в одной пьесе сцен трагических, серьезных – и комических, что невозможно было во французской трагедии с ее «придворными обычаями».
Наконец, вслед за Шекспиром Пушкин окончательно отказывается от традиционных единств места и времени, от рифмованного попарно александрийского стиха, столь удобного для великолепной декламации, для изящных и умных сентенций, но совершенно чуждого живой выразительности реалистического театра. Наряду с нерифмованным пятистопным ямбом, он вводит в драму прозаические реплики и целые сцены, написанные прозой.
Надо заметить, что ряд свойств шекспировской драмы, столь же существенных, как и только что названные, и так же вызывавших многочисленные подражания, остался совершенно чуждым Пушкину. В отличие от Байрона, который весь, всем своим творчеством захватил юного Пушкина, Шекспир нужен был ему только теми его сторонами, которые отвечали собственной эволюции, поддерживали его на новом этапе.
Пушкин нигде не говорит о таком важном и существенном моменте творчества Шекспира, как титаничность страстей его героев (Лира, Ричарда, Отелло), – эта сторона осталась чуждой Пушкину.
Чуждым осталось Пушкину, как будет подробно показано ниже, и свойственное Шекспиру богатство, разнообразие и детальность разработки отдельных драматических ситуаций, тщательное развитие тех или иных психологических моментов.
Никак не отразился в творчестве Пушкина и тот роскошный, полный метафор, риторических оборотов и поэтических фигур язык, которым постоянно говорят герои Шекспира. Этот расцвеченный язык считался у английских писателей, современников Пушкина, одним из основных признаков шекспировского стиля. Пушкину такой стиль речей шекспировских персонажей был чужд.
Наконец, совершенно в стороне оставил Пушкин одно из основных, типичных свойств Шекспира, как его понимали в начале XIX века, – участие фантастического элемента в пьесах.
«Борис Годунов» был задуман как трагедия политическая и историческая. Это не пьеса о Борисе Годунове как «трагическом герое» или о Григории Отрепьеве – это прежде всего драма, воспроизводящая исторические события, «комедия о настоящей беде Московскому государству» и – уже во вторую очередь – «о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Вот почему, «располагая трагедию по системе отца нашего Шекспира», по собственному выражению Пушкина, он за образец взял не его прославленные трагедии, о которых он нам оставил столько восхищенных отзывов, а шекспировские исторические хроники, которые, как характеризует их Гизо в своем предисловии к переводу Шекспира (1822), «представляют множество эпизодов и сцен, которые скорей заполняют действие, чем двигают его. По мере того как события проходят перед ним, Шекспир останавливает их, чтобы выхватить несколько деталей, определяющих их физиономию».
Пушкину нужно было именно это непринужденное чередование отдельных сцен, в своей совокупности незаметно создающих грандиозную картину исторического события, народного движения. Никакой группировки событий вокруг героя трагедии, никакого насилия над историческим материалом Пушкин не хотел производить. Не надо драматизировать, театрализовать историю – она сама по себе достаточно драматична. Свой замысел Пушкин определял как «мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории».
Первые четыре сцены (Шуйский и Воротынский, две народные сцены и первое появление избранного на царство Бориса) представляют собою нечто вроде пролога, события которого отделены пятью годами от основного действия трагедии. Здесь дана экспозиция драмы – недовольство Борисом готовых ко всяким козням бояр, равнодушие пока еще пассивного народа; зритель узнает и о давнишнем преступлении Бориса, играющем такую важную роль в его дальнейшем поведении.
В следующих четырех сценах (с 5-й по 8-ю) завязка будущей борьбы Бориса с Самозванцем: Григорий в келье Чудова монастыря, рассказы Пимена, зарождающие в Отрепьеве замысел объявить себя Димитрием, побег через границу, обнаруживающий необыкновенную находчивость и смелость будущего Самозванца. Контрастом этой восходящей линии Григория является 7-я сцена («Царские палаты»), показывающая, наоборот, глубокий упадок духа Бориса, его разочарование, вызванное сознанием отчуждения и враждебности к нему народа и усугубленное угрызениями совести.
В дальнейших двенадцати сценах развертывается борьба Бориса и Самозванца, показанная в ряде последовательных разнообразных перипетий. Так как решающую роль в этой борьбе играет «мнение народное», то этой внутренней, подпольной стороне отведено столько же места, если не больше, чем прямым и непосредственным столкновениям. Сначала показано действие слухов о появлении Самозванца на недовольных бояр и на царя – сцены 9-я и 10-я; в обеих сценах высказываются многозначительные опасения о поведении народа, когда до него дойдет весть о Димитрии. Далее мы видим Григория в его новой роли и группирующиеся вокруг него силы самых разнообразных врагов Бориса (сцены 11-я – 13-я). В этих трех «польских» сценах Самозванец обнаруживает во всем блеске свою богатую и беспокойную натуру. Две параллельные сцены (14-я – «Граница Литовская» и 15-я – «Царская дума») еще раз демонстрируют контрастные настроения в двух противных лагерях в момент, непосредственно предшествующий столкновению, – радость, веселые надежды, высказываемые устами молодого Курбского и слегка омраченные угрызениями совести ведущего на Русь войско интервентов Самозванца, и угнетенное настроение в Москве, «тревога и сомнение» в народе (в последней сцене Борис впервые слышит публичное обвинение его в убийстве царевича, нечаянно высказанное устами глуповатого патриарха). В 16-й сцене происходит битва, кончающаяся победой Самозванца. Объяснение этой победы дается в репликах бегущих воинов Бориса («Тебе любо, лягушка заморская, квакать на русского царевича, а мы ведь православные!»).
В следующей картине («Площадь перед собором…») на сцене снова народ – еще пассивный, но уже явно враждебный Борису, устами юродивого бросающий «царю Ироду» страшное обвинение. Две соседние сцены (18-я и 19-я) происходят в лагере Самозванца, до и после сражения, окончившегося разгромом его войск. В словах пленного в сцене 18-й мы снова слышим невольное сочувствие Самозванцу Борисовых воинов, причем здесь оно уже не мотивируется верой в его царское происхождение:
А говорят о милости твоей,
Что ты, дескать (не будь во гнев), и вор,
А молодец.
Самозванец (который появляется в 19-й сцене в последний раз) показывает свое добродушие, простоту в обращении, бесстрашие, непреоборимую (даже после полного поражения) веру в окончательный успех своего предприятия, заражающую его приверженцев. Эти две сцены, дающие картину делового, бодрого, несмотря на неудачи, настроения, товарищеских, простых отношений Самозванца с окружающими, сменяются мрачной картиной последнего дня Бориса. Сначала разговор с Басмановым, начинающийся пессимистической оценкой военных успехов над Самозванцем:
Он побежден, какая польза в том?
Мы тщетною победой увенчались, —
и заканчивающийся последним жестоким выводом Бориса, подытоживающим его отношения с народом:
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ…
. .
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо;
Грабь и казни – тебе не будет хуже.
Далее следуют честолюбивые размышления интригана Басманова, прерванные суматохой бояр и появлением умирающего Бориса, и, наконец, знаменитая сцена смерти Бориса – его предсмертные наставления сыну, присяга бояр и принятие схимы.
Если бы драма Пушкина была драмой о Борисе Годунове, то здесь она должна была кончиться, так как главный герой погиб и дело, за которое он боролся, также явно потерпело поражение. Но у Пушкина за этой сценой следуют еще три. Объяснение, что Пушкин хотел договорить до конца, показать и судьбу наследников Бориса и его вдовы, кажется мне наивным: ведь о дальнейшей судьбе любимой дочери Бориса Ксении мы все-таки ничего не узнаем в трагедии. Нет, здесь, конечно (как уже не раз было указано), дело в том, что в этих последних сценах трагедии появляется во всей своей мощи главное действующее лицо драмы – народ. В сцене «Ставка» в монологе Пушкина мы слышим резюмирующее суждение о решающей роли народа в происходящей борьбе – знаменитые слова «о мнении народном», которое оказывается сильнее военной силы и «польской помоги». С этим суждением соглашается и Басманов, и, надо думать, оно выражает основную оценку всей исторической ситуации и основной политический вывод самого автора.
Наконец, в двух последних картинах – народ как активная, решающая сила в виде бушующей мятежной массы в сцене у Лобного места и как моральная сила грозной в своем единодушном осудительном молчании толпы в последней сцене.
При этом беглом обзоре главной сюжетной линии совершенно не были затронуты другие существенные стороны пушкинской драмы – развитие характеров главных персонажей и показ целой толпы исторических типов и фигур, глубоко реалистически и тонко обрисованных (отчетливо индивидуализированные фигуры бояр, духовенства, воинов, народа), и многое другое. Все же из этого обзора ясно видна, как мне кажется, композиционная стройность и цельность «Бориса Годунова», обусловленная определенным идейным замыслом: показать подлинную, живую историческую картину, дать в театральном действии анализ движущих сил революционного народного движения. Собственные выводы, собственное отношение Пушкин постарался самым усердным образом скрыть, отчасти, может быть, и желая «спрятать уши под колпак юродивого», но главным образом, конечно, по соображениям принципиальным. Такова была, как сказано выше, его новая установка – полная объективность, «бесстрастие», «никакого предрассудка, любимой мысли… Свобода».
Эту сторону «Бориса Годунова» сразу же оценил Вяземский, который писал А. И. Тургеневу: «…истина удивительная, трезвость, спокойствие. Автора почти нигде не видишь. Перед тобой не куклы на проволоке, действующие по манию закулисного фокусника…»
В «Борисе Годунове» Пушкин следовал Шекспиру – и тем не менее, как уже говорилось, создал произведение, в целом ряде существенных моментов сильно отличающееся от шекспировских пьес. Здесь сказались индивидуальные пушкинские черты, характерные и для его творчества в целом, и для данного этапа его художественного развития.
Такой особенностью прежде всего является беспримерный лаконизм, краткость пушкинских сцен. Эта черта свойственна всему творчеству Пушкина, но здесь, в применении к театру, она приобретает особое значение.
Пушкину в «Борисе Годунове» совершенно чуждо основное свойство драматурга Шекспира – широкое, тщательно проведенное развитие, разработка данной ситуации, нередко переходящая из сцены в сцену. Там, где Шекспир использует ту или иную ситуацию для сложной и тонкой театральной игры, не только сохраняя психологическое «правдоподобие», но больше того – в этом длительном и разнообразном развитии положения находя все более тонкие и глубокие стороны и оттенки чувства и переживания, там Пушкин ограничивается чаще всего простым скупым и кратким изображением события.
Другое коренное отличие «Бориса Годунова» от шекспировских драм состоит в следующем: при всей удивительной глубине и правдивости психологии у Шекспира во многих случаях самые речи действующих лиц, их диалоги и особенно монологи имеют не чисто реалистический, а «условный» характер. Эти речи с необыкновенной яркостью, силой и тонкостью вскрывают сложное и противоречивое развитие данного характера, страсти, переживания – они раскрывают внутренний мир данного лица с необычайной глубиной и правдивостью, но таких речей, таких слов в реальной действительности человек в данном положении не стал бы произносить.
Пушкин в «Борисе Годунове» среди прочих условностей отвергает и эту – его герои не только действуют, но и говорят в каждом данном положении так, как они стали бы говорить в действительной жизни. Они не объясняют себя зрителям, за исключением, пожалуй, одного монолога Бориса: «Достиг я высшей власти», вернее, последних стихов этого монолога. Все остальные монологи имеют сугубо реалистическую мотивировку: это или рассказ, или размышление вслух.
Стремясь в «Борисе Годунове» к наиболее точному художественному воспроизведению жизни, к максимальной исторической и психологической правде, Пушкин самоотверженно лишил себя целого ряда верных и сильных средств воздействия на зрителя: он отказался от единого главного героя, вокруг которого могло бы группироваться действие, от четко выраженной коллизии, показа борьбы с людьми или иными препятствиями, которую вел бы герой, вообще от отчетливой интриги, которая, развиваясь в неожиданных перипетиях, поддерживала бы интерес и волнение зрителей. Он отказался от стройной и простой, столь удобной и привычной для зрителя композиции классической трагедии, от длинных, специально написанных сцен, диалогов и монологов, помогающих исполнителю раскрыть перед зрителем данный образ во всей его полноте, и т. д.
Эти жертвы у Пушкина были совершенно сознательными. Он писал: «Отказавшись добровольно от выгод, мне предоставляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий…»[2]
Отвергнув так решительно в «Борисе Годунове» традиционную классическую (и романтическую) театральность, Пушкин создал в нем образец особенного типа «пушкинской» драматургической системы.
С. М. Бонди







