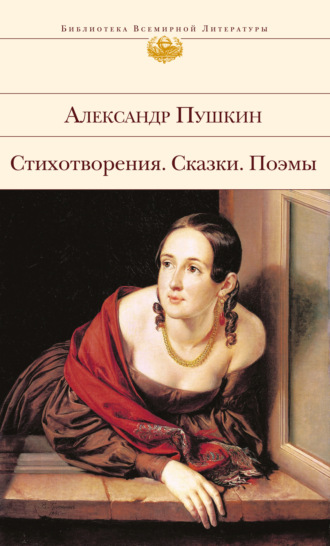
Александр Пушкин
Стихотворения. Сказки. Поэмы
© Сурат И.З., статьи, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Путь Пушкина
Сказать о Пушкине, что он первый среди русских писателей, – значит не сказать ничего. Сразу заняв центральное место на русском Парнасе, он уже для современников приобрел значение национального символа – и до сих пор не уступил это единственное место никому. Он стал не только «солнцем нашей поэзии» (В. Ф. Одоевский), но и «солнечным центром нашей истории» (И. А. Ильин), фокусом национального сознания. Объяснить и понять это тем более трудно, что Пушкин был только художником, он, по словам Гоголя, «дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт», «что такое в существе своем поэт». И во всем и до конца жизни оставаясь поэтом, он именно в этом качестве далеко вышел за рамки литературы, и саму литературу далеко вывел за ее рамки, закрепив надолго царственный статус слова в русской культуре.
Не секрет, что за пределами России Пушкина по-настоящему не признают и в общем не понимают. При переводе, даже самом тонком и точном, на другие языки он слишком многое теряет – уходит особая пушкинская глубина слова и стиха, с мерцанием бесконечных смыслов и перекатами интонационных волн. Что не переводится – это и есть Пушкин. Все дело в том, что Пушкин – это прежде всего явление русского языка, с которым непонятно: то ли Пушкин его формировал, то ли он дал нам Пушкина, это апофеоз русского языка, а вместе с ним и того национального склада, который в языке заключен. Россия нашла себя в Пушкине, и вспышка его гения совпала с золотым веком ее культурного развития.
При этом Пушкин – первый европеец в русской литературе. Не в смысле влияний, которые он перерастал мгновенно, а в смысле поразительной свободы, с которой он вошел в единое пространство мировой литературы, где чувствовал себя как дома. Никогда не быв за границей, он в творчестве стал подлинным гражданином мира, легко осваивая языки различных национальных культур и эпох – осваивая их в русском слове, он и русскую литературу выводил на мировую дорогу.
Шекспироведы уже полтора века спорят о том, кто, собственно, написал пьесы Шекспира, был ли их автором скромный актер родом из Стрэтфорда, или мы имеем дело с великой мистификацией. О Пушкине такой спор невозможен, и не только потому, что он к нам ближе и жизнь его документирована несравнимо лучше. Главное, потому, что он предстает нам как живая личность, не отделимая от сочинений, в которых эта личность выразилась со всей полнотой. И этот близкий нам человек прошел за свои 37 лет головокружительный путь и оставил уникальный опыт, который можно воспринять, изучая в единстве жизнь и слово Пушкина.
Александр Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве в семье Сергея Львовича Пушкина и Надежды Осиповны Пушкиной, урожденной Ганнибал. Свой род он вел от прусского выходца Радши, попавшего в Россию во времена Александра Невского – от него пошли ветви знатных дворянских фамилий, среди которых были и Пушкины, сыгравшие заметную роль в русской истории. С другой стороны были Ганнибалы, происходившие от сына абиссинского князя, вывезенного мальчиком из Африки; воспитанник и любимец Петра I, он вошел в силу при Елизавете, а дети его породнились с древними русскими родами. Пушкин всегда чувствовал за собой это родовой многовековый шлейф и оглядывался на него, считая «уважение к мертвым прадедам» основой личного достоинства дворянина.
Семья Пушкиных была не чужда литературным интересам. В доме бывали В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин (малолетний Александр, по воспоминаниям отца, «вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз»), дядя Василий Львович был известным поэтом – все это с детства вовлекло Пушкина в мир современной словесности, но подлинное его рождение как поэта произошло в Царскосельском Лицее, куда он был определен в 1811 году и где провел в кругу близких, любимых друзей шесть лет, которые впоследствии вспоминались и воспринимались как самые счастливые в жизни.
Юный Пушкин воспитывался «среди святых воспоминаний», военных памятников Царского Села, в непосредственной близости ко двору – и чувствовал себя в эпицентре всей европейской истории: «Чему, чему свидетели мы были! / Игралища таинственной игры, / Металися смущенные народы; / И высились и падали цари…» Его историческое и патриотическое сознание сформировалось как будто враз, в те дни, когда мимо лицейских стен «текла за ратью рать» – на войну с Наполеоном. В 15 лет в Царскосельском парке он вспоминает звонкими стихами века русской славы, данной ему здесь в наследство. Эти стихи – «Воспоминания в Царском Селе», – прочитанные 8 января 1815 года на лицейском экзамене в присутствии восхищенного Державина, сделали его знаменитым.
Там же, в Лицее, при всей неровности того образования, Пушкину открылась не только история, но и вся европейская культура, хоть и усвоенная зачастую по вторичным источникам. «Читал охотно Апулея, / А Цицерона не читал», – вспоминал он о лицейском времени в «Евгении Онегине». Но мы-то знаем, что читал, – и не только Цицерона, но и Канта, и Сенеку с Тацитом («Под стол ученых дураков!» – сказано о них в лицейском стихотворении «Пирующие студенты»), не говоря уж о художественной литературе, древней и новой. Именно в Лицее, благодаря его гуманитарной ориентации и некоторым европейски образованным профессорам (А. П. Куницын, А. И. Галич), этот мир мировой культуры открылся перед ним, лег к его ногам.
Пушкина родила молодая Россия, только что победившая Наполеона, – бодрая страна, уже не только прорубившая окно, но и распахнувшая дверь в Европу, страна, в которой кипела энергия преобразований, давшая реформатора М. М. Сперанского, а потом декабристов. На этой энергической волне возрастал и Пушкин, увлекшийся после Лицея политикой и ловивший новые социальные идеи. Но он был прежде всего поэт, и под его пером эти различные идеи, иногда противоречившие друг другу, получали такую публичную поэтическую силу, о какой могли только мечтать породившие эти идеи радикальные умы.
За это он и угодил в ссылку – в мае 1820 года был переведен по министерству иностранных дел, в котором формально числился на службе, в Кишинев, в канцелярию генерала И. Н. Инзова. Это было его первое большое путешествие по Российской империи, по Кавказу и Крыму, давшее целую гроздь так называемых «южных поэм» – «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». С Юга же начинается и полноводная пушкинская лирика со всем ее тематическим разнообразием, отражающим разнообразие и широту его стремительно развивающейся личности. Он по-прежнему увлечен освободительными идеями, в особое возбуждение его приводит греческое восстание против турецкого владычества, и он мечтает, вырвавшись из ссылки, участвовать в этой революции и, может быть, погибнуть, как погиб впоследствии Байрон, за свободу греков. Жизнь он ведет не ссылочную, бурную, с любовными увлечениями, дуэлями, побегами в цыганский табор, поездками по Бессарабии, в Одессу и к декабристам в Каменку. Тем временем слава его растет – после выхода в свет поэмы «Руслан и Людмила» (1820), вызвавшей бурю споров, от него ждали новых свершений, и дождались: в начале сентября 1822 года выходит из печати «Кавказский пленник» – поэма, которую Пушкин больше года не решался выдать публике, будучи не вполне ею доволен. В. П. Горчакову в ответ на его замечания он писал осенью 1822 года: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века».
Описанный здесь Пушкиным условный байронический комплекс был воспринят им еще в лицейские годы и тогда же дал свои плоды в лирике, но не затронул основ его душевной жизни. И вдруг теперь, среди кишиневского рассеяния, а затем и позже, в 1823 году в Одессе, из-под пера его выходят стихи, в которых уже без всякой литературности и условности выражено действительное, не выдуманное, глубокое, тотальное разочарование во всем, что прежде составляло основу существования: «Разоблачив пленительный кумир, / Я вижу призрак безобразный…» Пушкин как будто на лету преткнулся о грозные вопросы об истинной ценности жизни и о ее границах – простираются ли они за границы земного, или там, за гробом, ждет человека «ничтожество», небытие: «Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь! / Мне страшно!..» Тут же следует и разочарование в освободительных идеях, вести о поражении революционных движений в Европе вызывают лишь усталый скепсис: «В порабощенные бразды / Бросал живительное семя – / Но потерял я только время, / Благие мысли и труды…» От бурнокипящей внешней жизни, в которую он так был вовлечен и которая разом померкла для него, он впервые всерьез обратился к экзистенциальным проблемам, остановился перед ними.
В Одессе, куда Пушкин переехал в середине 1823 года, он переживает сильное увлечение женой бессарабского наместника Елизаветой Воронцовой. След этой любви на несколько лет останется в пушкинской лирике, а следствием ее станет конфликт с мужем, который, пользуясь поводом, добивается в июле 1824 года удаления соперника из Одессы. В Одессе же в мае 1823 года Пушкин начинает главное свое произведение – лирический роман «Евгений Онегин», роман, который будет сопровождать его больше семи лет и вместе с ним развиваться, роман непривычной для русского читателя формы, но с такими узнаваемыми героями, которых социологическая критика окрестила потом «типическими характерами в типических обстоятельствах», которые и были такими «типическими характерами» и при этом отражали разные стороны и фазисы душевного развития автора. Этот свободный, живой, текучий, подвижный роман вместил в себя так много, что, кажется, предсказал весь дальнейший ход русской жизни. Но для самого Пушкина это был прежде всего роман его души и его путь к человеческой зрелости.
Первые две главы «Онегина» пишутся в Одессе, здесь же начата и третья, завершенная уже в Михайловском, в уединении фамильной усадьбы, где Пушкину суждено было провести безвылазно два с лишним долгих года. За это время, помимо лирики, написаны «Цыганы», начатые в Одессе, «Подражания Корану», «Граф Нулин», четвертая глава «Онегина», «Борис Годунов» – но дело не в количестве сочинений, были у Пушкина периоды и более плодоносные. Вынужденное уединение, которым он с непривычки очень тяготился, оказалось для него не просто благотворным, но и спасительным. Через десять лет приехав в Михайловское и вспоминая годы ссылки, именно так он осмыслил свое тогдашнее затворничество: «…Я еще / Был молод, но уже судьба и страсти / Меня борьбой неравной истомили ‹…› Но здесь меня таинственным щитом / Святое Провиденье осенило, / Поэзия, как ангел утешитель, / Спасла меня, и я воскрес душой». В этих строках, не вошедших по своей интимности в беловую редакцию стихотворения «Вновь я посетил…» (1835), сформулирован может быть главный итог михайловского сидения – непосредственное ощущение Провидения, связанного с поэтическим даром.
Пушкин вел в Михайловском насыщенную и сложную жизнь. На поверхности было томление одиночеством, планы побега за границу, увлечения соседскими барышнями – а на глубине шла грандиозная работа, духовная и творческая. Он как никогда много читал: Библию и Шекспира, Четьи Минеи и Вальтер Скотта, и в особенности историков – древних и современных. Углубленные занятия историей, которые Пушкин не оставлял до конца своих дней, начались именно здесь, в Михайловском, – их результаты сказались прежде всего в трагедии «Борис Годунов», в которой верховная власть держится закономерным ходом событий, «силою вещей», а волюнтаристское ее присвоение не находит исторических и нравственных оправданий. Стремление проникнуть в механизмы истории постепенно приводит Пушкина к историческому провиденциализму, на фоне которого попытки насильственно сменить форму правления выглядят по меньшей мере исторически безответственно. Это был важный мировоззренческий прорыв, и он впрямую коснулся его личного самосознания. В Михайловском Пушкин, молодой еще человек, ощущает потребность осмыслить прожитые годы: он систематически работает над своими воспоминаниями и доводит эту работу до беловой рукописи. Записки эти, бывшие едва ли не главным михайловским делом, сожжены им в горячую минуту – но душевный труд, на них затраченный, не пропал втуне: с Михайловского созревало и все больше укреплялось в нем ощущение, что в поворотах судьбы есть высший, хоть и не всегда доступный разумению смысл и что для него лично смысл этот связан с творчеством.
Михайловское – центральная точка пушкинского пути. Здесь он углубился в себя, окончательно сделал свой выбор и осознал единственность назначенного ему жребия (этим объясняется, в частности, его решение не ехать в Петербург накануне декабрьского восстания). Здесь он подошел к расцвету своих творческих возможностей и в разгар работы над «Борисом Годуновым» признался в письме Н. Н. Раевскому: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».
Пушкину дана была судьбою драматичная биография: ранний взлет и опала, шестилетняя ссылка, потери близких друзей, сближение с царем, падение популярности, гибель на дуэли. Но этот внешний драматизм не идет ни в какое сравнение с коллизиями его внутреннего развития, с масштабом пережитых им внутренних событий. Главное событие михайловского периода символизировано в сюжете и образах «Пророка» – грандиозного стихотворения о поэзии как высшем служении и «тайном подвиге сердца» (Вл. Соловьев), о принятии смертного страдания ради права на «глагол», о полном перерождении поэта в горниле этого страдания, о силе богодухновенного слова, жгущего сердца.
Потрясенный известиями о петербургском восстании, а затем о приговоре декабристам, Пушкин старается «взглянуть на трагедию взглядом Шекспира». При этом он рвется в столицы и, надеясь на милость нового царя, пишет прошение на высочайшее имя об освобождении из ссылки. Прошение не остается без внимания – в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года к нему является курьер с повелением немедленно проследовать в Москву.
8 сентября 1826 года Пушкин в сопровождении фельдъегеря въехал в столицу и прямо в дорожной одежде был препровожден в Кремль. Здесь его ждал император. Разговор с Николаем I, о содержании которого можно судить лишь по косвенным источникам, стал поворотным пунктом в общественном положении Пушкина. В результате этой беседы он приблизился к власти, и ему показалось, что теперь он сможет оказывать на нее благотворное влияние. В дальнейшем это сближение обернулось тяжелой зависимостью от двора и во многом определило его жизнь в последние годы.
Литературная Москва встретила поэта как героя. Он упивался общением с друзьями, читал в гостиных новые произведения. знакомился с молодыми литераторами, налаживал сотрудничество с журналами. К этому периоду относится ряд мемуаров о Пушкине, написанных людьми, впервые тогда вступившими с ним в общение. Каким виделся Пушкин окружающим? Выразительная внешность, блестяще умный и одушевленный разговор, простодушный смех, частая угрюмость или тихая грусть… Но цельной и глубокой характеристики его мы не находим в этих мемуарах, как не находим ее и в воспоминаниях близких друзей. Личность Пушкина остается неуловимой, образ его ускользает от описания и современников, и поздних биографов. Может быть, это и есть главная пушкинская тайна, и путь к ней лежит только через творчество.
Вскоре положение Пушкина осложнилось. Не все одобряли его новую позицию по отношению к власти. Стихотворение «Стансы» (1826), обращенное к императору, встретило даже у друзей осуждение и обвинения в лести, так что ему пришлось объясняться: «Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю…» А с другой стороны, власть не могла до конца увериться в пушкинской лояльности: в 1827–1828 годах следует серия унизительных и опасных разбирательств – по поводу распространения не пропущенного цензурой отрывка из стихотворения «Андрей Шенье» (1825), а затем по поводу поэмы «Гавриилиада» (1821), в авторстве которой Пушкин в конце концов признался лично императору. Конечно, все это Пушкина тревожило: «Снова тучи надо мною / Собралися в тишине; / Рок завистливый бедою / Угрожает снова мне…» Но не эти «тучи» омрачили по-настоящему его душевный небосклон.
Рассеяние московского, а позже и петербургского света составляло разительный контраст с набранной им в Михайловском глубиной личного бытия. Пушкин осознавал эту раздвоенность, об этом – знаменитое стихотворение «Поэт» (1827), в двух частях которого контрастно противопоставлены два плана существования поэта: житейский и творческий. В 1828–1829 годах душевная жизнь Пушкина вновь драматизируется до предельной остроты, до такого внутреннего разлада, при котором сама жизнь воспринимается в какие-то минуты как «дар напрасный, дар случайный». Оглядываясь назад, он жестко оценивает пройденный путь: «И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаю…» Корни этого кризиса уходят в глубинные сферы его внутренней жизни, обостряется смутная тоска по идеалу – образное воплощение она нашла, в частности, в одном из стихотворений так называемого «кавказского цикла», родившегося во время путешествия в Арзрум 1829 года: «Далекий, вожделенный брег! / Туда б, сказав прости ущелью, / Подняться к вольной вышине! / Туда б, в заоблачную келью, / В соседство Бога скрыться мне!..» Картина монастыря на Казбеке претворена здесь в метафору душевной жизни, в вожделенный, но, кажется, недостижимый идеал личного существования.
Пушкин искал новых жизненных путей: он задумал жениться. Выбор пал на юную московскую красавицу Наталью Гончарову. К красоте, в том числе и женской, Пушкин относился как художник – воспринимал ее как святыню («Благоговея богомольно / Перед святыней красоты»), как воплощение идеала, как форму Божественного присутствия. Так он и воспринял облик своей будущей жены, поразивший его с первой встречи, и в его сознании эта встреча связалась с надеждой обновления жизни.
С этой надеждой Пушкин в конце августа 1830 года отправляется по хозяйственным делам в деревню Болдино, нижегородское имение отца, – и застревает там из-за холерной эпидемии на три долгих месяца. Эти месяцы вынужденного затворничества стали для Пушкина периодом беспримерной творческой активности. Как художник и как личность он достиг зрелости – пришла пора собирать камни. В Болдине, в состоянии душевной смуты, в тревогах о невесте и о будущей свадьбе, между безуспешными попытками прорваться через карантины в столицу Пушкин завершает многое из того, над чем думал и начинал работать раньше. Уже вернувшись в Москву, он писал своему издателю и другу П. А. Плетневу: «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы “Онегина”, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: “Скупой рыцарь”, “Моцарт и Сальери”, “Пир во время чумы” и “Дон Жуан”. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное). Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется – и которые напечатаем также Anonyme». Пушкин не все в этом отчете перечислил: еще он привез «Историю села Горюхина», «Сказку о попе и о работнике его Балде» и блок статей, или нехудожественной прозы, – сгустки глубоких, сильных мыслей о литературе, об истории, российской и мировой. Кажется, что все это написано на одном дыхании, – на самом же деле этот мощный скачок был подготовлен всем его предшествующим развитием. Свой внутренний кризис он изжил невероятным душевным усилием, творческим трудом самого высокого напряжения.
Болдинское творчество поражает разнообразием и масштабом. Цикл «маленьких трагедий» – монументальная фреска, исследующая поведение человека в разные эпохи в разных критических обстоятельствах. «Повести Белкина» – первая завершенная проза, по видимости бесхитростная, но с чрезвычайно сложной повествовательной системой, в которой спрятано как в коконе ее проблемное зерно. «Домик в Коломне» – шутливая поэма с почти неуловимой идейной подкладкой. И подлинные шедевры пушкинской лирики – любовной, философской, антологической… Окончание работы над «Евгением Онегиным» знаменовало завершение некоего жизненного круга и выход на новый путь. Прощаясь с любимым романом, с его героями, Пушкин прощался и со своим прошлым. В Болдине он ощущал себя на перепутье, в той точке, где кончается прошлое и начинается будущее: позади «безумных лет угасшее веселье» и «печаль минувших дней», впереди – «грядущего волнуемое море».
Из Болдина он выехал другим человеком, как будто вернувшимся к самому себе. На женитьбу свою он смотрел уже трезво-прозаически: «В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться… Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты». Он решил для себя пойти теперь общими путями – путями, на которых, как он считал, люди находят счастье. Впервые в биографии Пушкина мы видим такой поворот – жить как люди («До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут»), и это решение стало переломным в его судьбе.
Не только личная жизнь Пушкина в это время изменилась – изменилось и его положение в литературе. Он уходил все дальше от вкусов читающей публики и не встречал у нее такого горячего отклика, как прежде. Разговоры о закате его таланта стали общим местом в журналистике 1830-х годов. Все чаще Пушкин оставляет написанное в столе – почти вся его лирика последних лет была опубликована только после смерти. При этом он активно участвует в журнальных схватках, отстаивая свои эстетические и общественные принципы и стараясь через издаваемую им вместе с А. А. Дельвигом «Литературную газету» воздействовать на литературный процесс.
Не менее бурно он реагирует на политические события, главным из которых стало тогда для России польское восстание 1830–1831 годов. Пушкин был державником – неделимость империи казалась ему залогом ее процветания и мощи. Его патриотические стихи по поводу польского восстания («Перед гробницею святой…», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», 1831) были восприняты с недоумением в либеральных кругах. Пушкин все острее чувствовал свое одиночество среди современников.
В июле 1831 года он просит царя разрешить ему «заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках» с дальней целью написать историю Петра Великого. Разрешение было получено – и с этого момента Пушкин становится официальным историографом, заняв по должности место Н. М. Карамзина. Большие исторические замыслы отныне поглощают его время и внимание, и ради их осуществления он жертвует многим, в том числе и личной независимостью. Профессиональные занятия историей, конечно, не были для Пушкина случайностью. В них сошлись его внутренние творческие потребности как поэта и мыслителя со стремлением формировать общественное сознание современников и влиять на власть.
В последнем отношении особенно важна пушкинская поэма «Анджело» (1833) – критики, и в частности В. Г. Белинский, оценили ее низко, сам же Пушкин говорил, что ничего лучше он не написал. В «Анджело», как и в «Капитанской дочке» (1836), он художественно воплотил свою концепцию гуманной власти, сочетающей закон с милосердием. В финальных, перекликающихся между собой сценах поэмы и романа очевидны черты утопии.
С работой Пушкина над историей Петра связана его последняя поэма «Медный всадник» (1833); ее центральная тема – стихия истории и личная судьба, государство и частная жизнь человека. Художественная формула этого столкновения найдена Пушкиным в грандиозном по своей поэтической силе образе петербургского наводнения, смывающего судьбы маленьких героев поэмы.
Истории Петра Пушкин не закончил. Его «История Пугачева», напечатанная в 1834 году, не имела успеха у читателей, тираж ее остался не раскупленным. Становилось все яснее, что выбор, сделанный Пушкиным, не оправдывается. Обращение к историческим трудам означало для него выход на активное общественное поприще – он намеревался таким путем помочь современникам осмыслить настоящее и будущее России в перспективе ее многовековой истории. Но его голос не был услышан.
С 1834 года осложняется и личная жизнь Пушкина. Он получает унизительное для него придворное звание камер-юнкера, которому должен теперь соответствовать – посещать официальные мероприятия и балы. С этого момента его отношения с властью все больше обостряются: серия цензурных преследований, организованных ярым врагом Пушкина министром просвещения С. С. Уваровым, перлюстрация семейной переписки, беспросветная денежная зависимость от казны – все эти обстоятельства отравляют его существование. Но главные проблемы, мучившие Пушкина, лежали в другой плоскости. С весны 1835 года в его лирике появляются и все нарастают новые мотивы, связанные с предчувствием близкой смерти; сгущаясь, они выстраиваются постепенно в единый сюжет, исполненный драматизма и неумолимо идущий к развязке. Герои его лирики этого года – Родрик, Странник – ввиду близкой смерти резко меняют жизнь, чтобы успеть приготовиться к концу. То же хочет сделать и Пушкин – он предпринимает попытки уйти в отставку, переехать с семьей в деревню; «…поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические – семья, любовь, etc. – религия, смерть» – так ему видится эта новая углубленная жизнь, в которой он ощущает уже самую острую потребность. Но реализовать этот идеал оказалось невозможно – две попытки уйти в отставку встретили раздражение императора, а желание уехать в деревню натолкнулось на решительное сопротивление жены.
В 1836 году терпит неудачу его последний общественный проект – издание журнала «Современник», который Пушкин задумал как собрание «статей чисто литературных (как то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности». К журналу были привлечены лучшие силы: здесь печатались произведения самого Пушкина, а также Гоголя, Тютчева, Жуковского, Вяземского, Баратынского, Языкова, Дениса Давыдова, А. И. Тургенева, – однако в конкуренции с массовой литературой «Современник» проиграл; число его подписчиков было столь незначительно, что не могло обеспечить издания. Пушкин ориентировался на свой вкус и мыслил по нему формировать вкусы общества, но, как видно, и здесь опередил свое время.
Летом 1836 года, живя с семьей на даче на Каменном Острове, Пушкин написал свой последний лирический цикл, в котором преобладают христианские мотивы. Этот цикл воспринимается как итог его духовного пути – кажется, что после этих стихов уже ничего не могло быть им написано. Стихи эти очень разные, но итог они подводят один – что только внутреннее дело имеет смысл, для поэта – только его личное творческое дело. И предсмертная тревога о судьбе души находит здесь разрешение: поэт спасается от тления необщим путем – душа его неотделима от лиры и именно в лире переживет его прах («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»).
Обстоятельства ухода Пушкина из жизни (29 января 1837 года) хорошо известны: легкомыслие красавицы жены, козни голландского посланника и его приемного сына, дуэль – все это многократно описано и досконально изучено, но к этому не может сводиться проблема гибели Пушкина. Анализ этих известных обстоятельств оставляет ощущение их несоизмеримости с происшедшим. Все это – только внешняя сторона жизненного круга, событийная оболочка великой трагедии великого художника, имеющей, помимо ситуативных причин, свою глубинную логику и свою провиденциальную телеологию. Гений в расцвете сил и таланта – неужели он ушел потому, что оказался в зависимости от двора, а жена его кокетничала с кавалергардом? Гибель Пушкина – закономерный итог его пути; на Черную речку его привела логика внутреннего развития, логика судьбы. Невыносимость жизни Пушкина в последние годы определяется не самими обстоятельствами, о которых так много написано, а разительным несоответствием этих обстоятельств его новым духовным устремлениям. Этот контраст – исходная точка дуэли. Пушкин во многом сам определил течение преддуэльных событий – им двигала острая потребность расчистить свой жизненный горизонт, освободиться для новой жизни. В основе его поведения было, говоря словами Г. Федотова, «чаяние последнего освобождения».
После смерти Пушкина Гоголь сказал: «Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой». Какой другой? Если выход на новый виток жизни был связан с новым для Пушкина христианским сознанием, то что он стал бы с этим делать как поэт? До сих пор его в жизни и творчестве вел только дар – как это могло быть согласовано с глубоким принятием христианства? На эти вопросы нет ответа, но они неумолимо возникают в связи с его гибелью.
Помимо того, что написано им на бумаге, помимо удивительного опыта жизни, прожитой ярко и сильно, Пушкин оставил нам и опыт смерти, поразившей всех, кто при ней тогда присутствовал. В последние пушкинские дни и часы его друзья и врачи стали свидетелями героического переживания смерти как великого таинства. Пушкин умер «полной смертью» (Мандельштам) – такая смерть дается не каждому, она говорит о многом и прежде всего – о цене пушкинского слова.
Ирина Сурат







