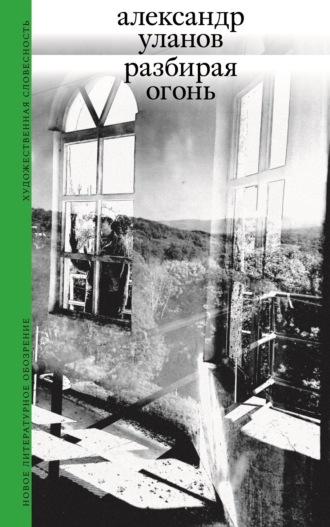
Александр Уланов
Разбирая огонь
– гигантские кальмары ночного винограда тянут щупальца сна
– гладко-слоёным морем во рту где разноудалённостью людей от совсем неожиданно очень
– и на всякий текущий план парад насекомых сгустками ночной геометрии ближе к шару пора мухи светляками читаю о пчёлах треугольным деревом
– позапрошлой и прошлой ночью во сне очень сильно кусаю язык и просыпаюсь от боли, сегодня утром казалось, что язык раскушен пополам, раздвоенный, как у змеи
– подводная чуть светящая вишней удерживая майского жука не добыть корой дуба настоять часы
– поздравляют с выходом книги
– да, недавно во сне тебя с книгой, подарив шкуру акулы змеиной расцветки – чтобы носить на спине, глядеть и гладить разлитым молоком
– из сада на балкон, без воздуха без воды
– полусимметрично – отключили воду. Но воздух – тёмный и быстрый
– голос всё это время с балкона расставленное пространство трескаясь от колебаний не синхронных вечера и анемоны жить без моря как город без рима по(с)ле как
– ночью балкон собой море в тебе и мне есть трещины в воздухе к ним кран поднимает дождь укрепляя небо пальцами в клее торопясь проводами скоро
– около тише страниц и роста листьев
– гриппа не боюсь, он медленный гриб, убежим. В длину яблок
– тогда буду ждать вторника стаями речной ширины
– опередившая тебя на секунду фраза: «тоска по месту, где сбывается ночь»
– ночь сбывается не в месте, а вместе, когда ей помогают вдвоём
– дом – то, что отпускает последним, когда проваливаешься в сон, и пробуждает первым
– тогда дом – человек, обнимая которого, засыпаешь
– початки ковров растерялись вдали, безрукая зима зря хлопочет. Небо маячит впредь горизонта размякшей кружкой на ржавой банке. Гости из Питера
– небо цвета берёз после дождя. Прищепки ждут стрекоз. Зиме не нужны руки, обходится дыханием
– руками зима вытряхивает из ковров старость
– старость вплетается в нити, никакой зиме не вытрясти
– прикосновение оживляет. Ответишь в мою форточку, а я на балконе, в воздухе?
– в форточку буду шептать ше(потом)
– жду, когда (ря)дом. Лучше перешёптываться, чем переговариваться
– словами, написанными водой
– входы озёр и выходы цветов. Утро с руками в воде
– (ш)мели дождя скоростью (мо)лью
– между трещин и крыльев. Касаясь ниткой в полотенце, как получится, воскресенье или в римской трубе недели
– воздух цветёт перед цветами
– перевёрнутым ветром стола
– в облаках у колодца? В третьем зерне колоса?
– что-то за спиной хлопало, показалось, что ты бежишь за мной
– может быть, это я и есть
– это не нормально, это чудесно, потому что очень близко. Поэтому так и прекрасно, что не зависит от того, что было или будет. Совсем не нормально, и «пойдёт дальше» только потому, что невероятно, а если нормально – дальше тоже нормально, и я не знаю никакого дальше в таком случае
– ты можешь не вспоминать? что не прекращает возвращаться само, будто не из памяти, из более личного и более бессодержательного, чем память. Когда возвращается, я хочу вспомнить, но ничего не получается. Только волнение, которое закладывает уши, я повторяю, не вспоминая
– собрать из того, что было с нами в какой-то момент – что было бы окном в то, чего не было. Звёзды, видимые со спины, дом, который над водой и на языке
– луком и стеклом у мамы, спиной и карандашом у тебя
– с края прожитого касания в трещинах света вечера город дышит не считается с временем
пропуская поезда подошедшей запаху тополя синевой с твоей рукой не спящей
– в ожидании вечерней просьбы сна
– гребешками силы
– как хвост?
– по(до)спевшей крепко подаренной темнотой
– без тебя заблудившись в скуке «Нового мира»
– в городе воздухе ещё не дома всё в порядке
– буквы раскрываются, позабыв места
– нервы не рвутся
– спутанные, устают не рваться
– чтобы порваться поодиночке? интересно, из двух половинок нерва вырастают два?
– каждая из двух половинок связана с чем-то ещё, но может быть, и не растут в разорванности
– или от разорванности и растут
– может быть, требуют навести порядок, который невозможно навести, и нервничают от этого. Но рост, кажется, от чего-то ещё
– больше нервов – меньше нервов или больше? какое-то обучение терпению скорее
– нервы не только нервничают, но и думают. Больше нервов – больше связей? хотя от них больше нервностей
– растут от собственной скорости, переходящей в рост – скорость ветра в рост веток – умещаясь в промежутках касаний
– наверное, сигнал, проходящий по нерву, удлиняет его. Но растущее не умещается, и касается нового
– выдыхая говорить о вдохе?
– пока не, о выдохе – не говорят, делают
– делать – касаясь выдохами (на)встречу – попробуем?
– на работе маленькая сороконожка, тебе не надо?
– можно
– ушла уже, быстрая, скажу, как придёт
– у меня нет причёски
– чихаешь? Пыль? Не смылась?
– наверное, просто въелась, хожу очень много
– в день без ночи с топлёным утром дом мёд и кофе в равных чашах кресла, на площади дьяволы
– тепло расползается по полу, в комнате шероховатое, в коридоре гладкое, оба с ископаемым кофе ждут тебя, дьяволы улетят на башни костёла. Подсчитан ли день? Сегодня уже завтра?
– кофе и мёд согрели, подсчёты до утра
– греют ещё трава душица, руки. Спи, и я – до вечера?
– ещё не дома на пороге тумана
– в журнале попросили твой e-mail. Как сон после тумана?
– сон через приоткрытую дверь
– раскатом недоразумений лёгкость последней капли воды. А вы отсюда? – нет конечно!
– я здесь, когда с тобой и с собой, не здесь – на работе. Капля волна разбивается на частицы, которые волны. Сдают номер журнала
– покрываюсь тонким слоем тебя
– надеюсь, слой с дырами и не мешающий? Снежный дикобраз бросает первые иглы
– ещё иглы листьев не, а уже снежные
– листья скорее угли, чем иглы. Если слой, тогда я сейчас одеяло тебе в сон
– не пущу!
– ты о чем? что не впустишь или не отпустишь?
– Бланшо о письме как индивидуальной власти, превосходящей власть (языка в том числе)
– поэтому Бланшо и не настроен так агрессивно к языку, как Барт? Знает, что справится, и что язык от человека тоже зависит, а не только давит
– во сне по Риге у зданий папы Эйзенштейна
– не умещающимся в горле-проводнике утра удивлением, окнами-электролампочками и девушками, ни за что не желающими спускаться в горловине лифта
– посмотрев египетский альбом, за египетский труд – чистить плиту, стенку около неё, чайник, крышку сковородки, раковину на кухне
– на сундуке выросла верба. Если будет наводнение – взбирайся на неё, выдержит и спасёт
– веером вербы улыбаться в арку. С кончиков собрано немного сумерек, влажных от росы. На ветках буду встречать гостей, спасибо
– не-мехом, не-пухом, мягким и белым, щеку и плечо
– падать так легко, весна ковров
– попробуем поискать уплотнения и просветы в темноте?
– перед глазами отличный кадр, который бы тебе подарить
– так дари – положив руку на мои глаза
– прикосновение не оставить на картине или фото. Оно мгновенно, его фиксация ложна – или оно окажется связью, удерживанием. И лицо в литературе и фотографии сейчас всё менее возможно. Конец сюжета – и конец словесного портрета, который оказывается стилизацией под XIX век. На смену – портрет через ассоциации или частичный взгляд, часть, знающая, что она часть. Аналогично и в фотографии: лицо либо слишком характерно, досказано, либо слишком неопределённо. Выход – лицо как предмет среди предметов, некоторая многозначная форма?
– дело не в том, что завуалированное-зашифрованное лучше, а в том, что прямое называние огрубляет. Вода – какая? вода – и только?
– преждевременная весна на хвостах толстощёких ящериц, обветренная, обгоревшая, обточенная. Приеду встречать прозрачную высокую
– опираюсь на вербу. В клетках таблиц, но завтра вечером скорее дома
– облачный сок и остров сна руки
– ночь несёт на длинной спине. Сестры Эдды сеют лед и пекут яблочные пироги, знают невечность богов и прочность людей
– стрижи иглами от воздуха сзади
– иглой просыпающегося ежа – пыль будет глиной
– есть апельсины и свет
– спины нет
– что же ещё вижу, когда убегаешь
– но и я не сплю, отправляй бессонницу обратно. Без сна хорошо гулять и подглядывать
– нет, пока спи. Потом ты с моей бессонницей, я с твоей, подглядывая друг за другом
– киты уплыли в другие края
– с пятнистыми берегами, чтобы можно было чесать спину. Набираю солёное море, не выдерживая плечами и грудью, сгорающими в кольцах бестолковых осад. Бродящие после полуночи воспоминания оставляют морщины гор и лесов вокруг глаз, вопреки подводным законам аэродинамики
– киты обрастают ракушками и домами. Царапины уходят, освобождая место новым
– расстояние кончиков косточек груши
– Прага? может, туда? нет моря, но улицы узки
– а Неаполь? но там страшные жулики на юге
– жуликов перепрыгнем. Тут тугой беспалостью спин и ключиц, вперед(и) дождем облепиховой тишиной
– апельсин стал немного синим – дело к апрелю. Крыши – конверты, а прожилки – истлевающих писем
– лучше присутствие твоего молчания, чем молчание твоего отсутствия. А ещё лучше удвоение молчания
– ух
– ты не только ухай, ты прилетай
– люди – искры, скрываются быстро
– в твой костер – каштаны и вербу
– сплю вокруг кулака собранной в напряжении гортанной лёгкости, ветер швырял её обжигающей по краям бесчувственной медузой по небу, шея-кузнечик – говорят, если держаться за воду, то выключать свет и прятаться в разрывах «иди сюда» сегодня – найти скоростное погружение и разболтать о нём – потерять укрытие от ветра и дождя – боюсь собрания вчерашней ночи скрипящим воздухом – с таким скоро пить вино из за(о)конного винограда
– спина раскапывать и звенеть, (вы)носить. Дождь на плечи волосами воды, вино будущей страны
– медленно о медленном Шамшаде Абдуллаеве в горячий сон из дождевого бега. Вернули хороший альбом по модерну, взятый одиннадцать лет назад – приходи смотреть
– сажая косточки в течение корабля. Как твоя лекция о Драгомощенко?
– почти не понимая почти не читавшим. Драгомощенко яркий – не предметами, у него все приглушено, пейзаж – падающие листья, осока, мусорные баки. Вспышками связей, выходящих из предметов
– Драгомощенко антиинициационный. Инициация – рассказ об устройстве мира, вписывание в ясную и прочную картину социального. У Драгомощенко – обнаружение текучести в прочном, и неустранимости этой текучести
– темнота пальмовых веток под подушкой шестипалой корой выше запаха подушки на удвоенный взгляд навстречу
– раскрытым до Гауди летом – чисткой зубов островами громоустойчивых бакланов всё в подошве левого мизинца – не спеша вереница с воздухом рукой в кармане венецианского двора – группой ветра
– тюльпаны обиделись и нагнетают тени. Земля в ногах. В весенних цветах тени больше. Они утренние-вечерние, и что-то от зимы ещё в них. Больше сумрака и синего. Оставляют свои сухие тени на плечах-ножницах – у тебя (ли) дождь неразложенным креслом к велосипедной пятке?
– внимательность у Казакова не отпускает, держится за свой объект – время, железо, волосы и губы, молчание, гости, зеркала и отражения – но почти не продвигается дальше. Даль почти не меняется. Железо метафорически, кажется, может заменить всё: небо – время суток – поцелуй
– почему железо? сверкающая жёсткость, наносящая рану? У Казакова много напряжения и боли, хотя чаще не названных прямо
– глаголы меняют объект и направляются теперь на подлежащее: «От хозяйки не ускользнуло». Дальше пропадает и глагол: «Они умолкли, – вернее, просто они»
– скорее не пропадание, а размывание во множество? Они – наличные и совершающие множество действий?
– почти нет телесности? Волосы, губы, локти – скорее часть пространства, а не человека
– при том, что у него развитая предметность. Может быть, человек продолжается в крышах и воздухе, это тоже его тело, причем более точное и подходящее. Волосы и губы одного порядка с этими новыми частями тела
– у Казакова много военных. Не видел ли он в войне романтику, как в карточной игре? У него вставки и с описанием виноделия. Вино – тоже часть романтического мира? Но эти вставки сухи, фактичны, некоторый контрапункт совершающей сложные скачки ассоциативности, опора для неё?
– некоторые исторические места обретают новый смысл: буркандья – не мёртвый поселок на Колыме, но новый тип мысли и прозы. И постоянные сомнения и сбои вокруг речи. «Это показалось словами, а было другим»
– хотелось конфетой поздравить с апрелем – но ворота закрыты
– ворота пустуют впустую. Можно и в апреле
– на закрытых воротах не виснет ни конфета, ни письмо – никакая буква. Апрель завтра
– кажется, что всегда только буду. Читаю инструкцию к глазным каплям – глаза устали, но не читать, а писать отчеты. Апрель совсем не, да
– усталость копится в уголках губ и глаз. Радость тоже
– временем сна замоченный горох вечер каплей суток сухо смолоть
– сегодняшние кости высушить запахом Этны
– перепуталось; оказалось намного проще; дважды неожиданно; документы отданы; за тобой
– над – отсутствие тебя, внутри ты/сон
– сбоку, сверху ожидание/никого; собираю потихоньку по лицу/телу тебя
– соберёшь рассказы и глаза? Окна вращаются, ночь превращается в снег. Последнее купе пустое спрятаться с тобой
– собираю как морскую соль
– сон твоим минутам. Вечер парит над Кристевой. Возвращаясь к взгляду в спину стиха
– параллельные миры – горение с нескольких сторон. Быстро (несколько жизней), интересно, хотя порой немного страшно, а за другого, в котором видишь эти напряжения течений, страшнее, конечно. Но тут и оттенки, и поддержка рядом текущего плеча, хотя параллельных снов, мне кажется, не бывает, там как раз пересекается, но и наяву перекрестья хороши, если выдержать
– город всё больше напоминает другие, вдруг озадачил вопрос о моей принадлежности к нему
– упругостью синего винограда – мозаичный дворик в Питере – мои фото накрывают столы в Штутгарте. Положив руку на спину прерваться на счет кофе мхом букв
– с протоками лета оборачиваясь каплей дождя вверх к дню полёта
– объятья изъять зелень и запястья – угл(ё/о)м глаз пусть захоронение с антенной и водопроводом на горе не совместимых смещение
– письмо на ощупь, а оказалось перед глазами. Совсем болею, но только второй день
– как температура? Хорошо быть-и-не-быть (ты-и-я слишком более не). У Дубина самого толстого Бланшо кто-то читает
– сегодня показалось, что пошёл снег, настоящий, хлопьями. Бери тонкого
– переснято три книги. Спать в четыре – тоже ночь с тобой
– спасибо! плохо сплю после снега. О чём-то неизвестном
– 37,3
– к тебе летит паук с капелькой темноты для горла
– встречу имбирем сельдереем
– паука или меня? пауку крошка черного хлеба
– паука
– катишься? как температура?
– качусь, падает по мере удаления
– тело твоё почти полностью определяется сознанием. Кажется, едешь на налимах
– отбиваясь от бумажного ветра
– навстречу, чуть удерживая себя бегом. Болезнь длиною в ночь попеременным пробуждением-касанием тёплого края взорвалась желтым маркером в промедлении сжимающегося со взглядом возвращения
– сесть около твоего края, взять твою болезнь в свою? болезнь медленная, останавливающая, пусть она к моей медленности
– с болезнью пока не понятно. Кажется, что и она очень ускорилась, извернулась хрупкостью взрыва
– горлом вдоль горла
– волосы шевелятся ночью, прокладывая траектории роста
– волосы – встреча с воздухом
– хорошо расти в поезде. Он раскидывает
– рост в одиночестве и тишине, поезд слишком меняет время
– в Москве ничего, в Нижнем – только проверь, есть ли автоматы с газировкой
– автоматов с газировкой нет, летают тропические бабочки и садятся на людей
– чехарда сборов застилает окно снегом. Если бабочки – ищи воздушных змеев на горе
– змеям слишком холодно. Город не знает, что мои – твои. Разобранным порой хорошо ночью
– ночью хорошо дышать сквозь пятиконечные лепестки простыни, слушать воду, ночевать, не спать, спать тоже, распоясавшись
– ночью плыть в городе воде себе друг друге на горе на горе на радость
– осенний ветер в прядь вплетает похищенные крайности движений. Стылой ощупью. Головой к окну – к дождю
– в книжных продают мумий во вложенных гробах, а я ногами от бумаг
– ногами расти из ночи так прорастает луковица
– из ночи растёт ночь, человек, встреча, лепестки тюльпана, всё это слои луковицы. Если лицо станет маской, оно, возможно, будет светиться в темноте. Книга – дом, а на луне огород. К тебе идёт тепло
– став маской, лицо парит над телом. Тепла дошло немного, теперь вместе в кофейной чашке под столом вниз головой. На луне хорошо играть в футбол
– на луне были и футбол, дорожный указатель, кладбище. Лицо всегда с телом и не – закрывая и проявляя. Тепла ушло сколько было
– время сбежать из дома и кататься в аквариумах монорельсовой дороги, пролетая мимо застывающих окон. Тепла больше, не всё сразу. Спасибо. Голубым (б)ликом подсматривая в пустоту, думаю, что возвращаешься
– возвращаюсь, ожидая. Спи, у тебя почти два ночи
– это не бежевые, а белые нитки
– белый совсем другой. Молоко?
– молоко – но не совсем белое. Придёшь в магазин и попросишь подобрать молоко под цвет ниток?
– ряженку
– фото можно и (завтра)
– фотозавтра фотозавра он светится
– между веткой и вечером. Между вдохом и выдохом сплю
– ждёшь, и во мне игла, спать наудачу навстречу
– нашлось, где сделать уколы сегодня и завтра, не беспокойся. Студёным шагом разницу вечера
– чёрная радуга под снегом и землей?
– чтобы сказать – дождаться
– снежок из летящего ночного «мимо»
– в «сейчас» живешь – невозможность этого вне прошлого и будущего, и невозможность внутри «сейчас» преградами в нём
– будущее как существительное очень некрасивое слово
– не настолько. Двойное У – труба. Щее – вползание, будущее вползает в настоящее постепенно, змеей, неясно, где его туловище, голова и хвост
– чужое утро пахло дождем
– когда соберёмся собраться?
– работаю до 9.30. Голубой – зас(ы)панного пляжа
– пойдём загорать под ночным солнцем?
– как вернёшься – оказывается, у всех дела к тебе. Сегодня весь день ищу коня
– пусть сами ищут! И конь свободен
– конь нужен мне, чтобы устроить человеку праздник
– не купить ли билет? На дне озера
– пыль дождя, большая комната с двумя креслами зарезервирована, жду в других странах
– снилось созвездие с названием на к – с таким названием все его звёзды легко было полностью увидеть ночью – и как ты смеёшься. Здесь камни и липы молчанием норманнов. А лошади крылатые и ехидно дисциплинированы
– догоняя ночью склоняясь к югу (раз)вернув дыхание
– укрывая не с читая уводя хотя у ходя в ночь отставая
– обратно можно из Рима, можно из Мюнхена
– +27, веснушки медового дерева, тогда из Рима, пока не знаю, куда меня
– балкон, отражающий трижды, заносчивые, не привыкшие удивляться французы, за неимением слонов угощают кофе, всюду встречается Шевийяр, все по-прежнему очень медлительны. Летними барахолками, спутавшимся солнцем с ночными мыслями звуки города лёгкость
– тенью воды касаясь выше вечера улицы жду не ответа тебя раньше ночи оборачивая усталость усталости к самому старому новому мосту
– с велосипедом вместе в поисках юга размывая
– выше будущего рёбрами листьев на чердаке спины полотенцем закручиваясь
– пере(п)летая перелистывая, нет штор, только ставни, тремя цветами в тепле, билеты Париж-Рим
– лес каштанами, вызревшими уверенным подножным соком, с пригвождёнными к земле трассами и седалищами. А также местными захоронениями. Похоже, они во времена Османа последний сук укрепили и облагородили. Не спеши только – утро акации
– солнечным кустарником сплетать остроту в дорогу хвостами белок по плечам, углами поездов и листьями самолетов. Ночь – ожидающий нераскрывшийся каштан
– перехожу на суп и кофе
– чуть боюсь твоей усталости, суп её смывает, а кофе консервирует?
– суп смывает дождём и балконом. Усталость приближается к локтям, но совсем короткая, моя радостью, сумерками, темнеющими камнями, беспокоюсь о твоей
– кажется, что в Париже архитектура бежит. Не останавливается ни в готике, ни в модерне, разве что выпить горячего вина или съесть супа. Как за ней угнаться – или как обойти?
– остаюсь на неделю дольше под крышей с радио и вдольоконными ананасами
– течёт и уносит, завтра иду менять страховку, с когда?
– не могу выяснить, когда конференция. Пусть с часу?
– думаю под землей весна можжевельником, с часу хорошо. Под землёй морские анемоны и морские уточки, с Америкой всё запутано, плыву по дождю
– Сан-Джиминьяно равноудалён от Флоренции и Сиены, совместить поездку туда с переездом из Флоренции в Сиену? Удобно ли с рюкзаками? поездом до Поджибонси (станция между Флоренцией и Сиеной, оттуда автобус в Сан-Джиминьяно)
– от бумаг можно замерзнуть. Но согреемся в беге с поезда на автобус. Ты, конечно, выбираешь самый напряжённый вариант
– листьями солнца нести
– ночь прогрызла гриб в горле ореха фонари богомолами над изгибающим тонкость днём не успевают следом и собираются в усреднённое собрание тепла от камня к полуночи
– ночь не отвечает за город держит строения вдоль спускающихся чтобы рассчитать шаги на сон идущего – тексты чуть позже в прорастании из шороха рядом
– спасибо за квартиру, будет спокойнее ронять листья
– дождь выпрямляет деревья внутри согнувшегося под ним, исходящее себя место бормотание усталости, город раскопан в поисках тепла, твоя квартира нашла, моя пока не. Я вне холода, на который сил не. Над тобой постоянный дождь, бока ракушек с боков. В тени укропа и беличьего хвоста
– библиотеками в поисках света для дома дождём приближая ожидание
– голос хлеба к прогибающемуся вверх Римом потолку
– улыбкой каменных вкраплений, вмятиной в крышке термоса, расскажешь Сафо?
– козий мед более реальный – вместе с закатом с романской стороны собора. Поезд по волнам Сицилии
– осень сквозь листья рыбы
– стены не по сезону покорные, несмотря на то, что Бастилия. Бегу к подвижным
– Бастилия рассыпалась в танец, как помнишь
– Сафо в Сицилии точно была
– всё ты про Сафо знаешь. Но Сицилия ей подходит, природой, переменностью, вулканами
– проводами на потолке тебя
– вдоль утра прорастающей винтом в речь Венецией
– греками улыбок башнями ожидания к спине Сиены
– улетает крыша, скованная утром
– крышу прибили к пыли, улетают вместе. Фонарь набирается жара ночи
– из окна не отличить тень от снега
– прошлого снега? будущего?
– тень исчезающего сейчас, но спокойного снега, скорее будущего, контур не понять. Жабес, когда берусь переводить, нелепой становится сама попытка. Честнее бы сказать, что я по этому поводу думаю, а не перевести
– тень появляющегося снега? перевод и есть попытка прочтения. Тень остаётся под снегом
– перевод возможен только при крайней интимности с текстом
– интимность – опять «всё или ничего», чёрно-белая ошибка, мне кажется. При интимности, скорее, наоборот, риск подстановки своего. Очень искренний текст обычно плох
– птица не очень любит, когда её гладят, даже гладящая ладонь стесняет. А ветку можно
– ветка позволяет гладить – знает, что всю целиком не охватить, пока растёт
– может быть, тогда и птицу можно – пока летит?
– птица из сплавляющихся по реке совсем ещё молодых ладоней листьев
– тогда это будущая птица из будущих листьев
– будящая птица солнечных сплетений ловкостью нанизанных на кончики пальцев чаепитий
– ночная не будит
– дневная днём не разбудит, а ночью сама спит
– кажется, речь может кончаться очень различно. От перехода в не-речевое, в действие – до расплывания в такое множество возможностей, что саму себя не находит. У Жабеса, может быть, дохождение речи до такого места, где она не в состоянии длиться далее
– вопрос о конце речи – его связанность с человеком, более ставшим речью, чем собой, но речи всё равно не принадлежащему. Что значит конец речи для того, кто не принадлежит ни себе, ни речи? невозможность конца?
– но нельзя стать более речью, чем собой. Речь индивидуальна, это не общий словарь. Человек больше своей речи. Это потом речь может жить сама и стать больше человека, но это уже она, а не он
– видимо, самоустранение было необходимо после романтических гор самовыражения, но совсем пустота тоже не слишком интересна. Малоинтересна индивидуальность биографии, но интересна индивидуальность взгляда
– разговором печёной алгебры
– как будто чей-то сон ходит вкруг лёгкой водой на лицо – не мой
– может быть, мой сон, доходя до тебя, теряет тяжесть
– и сонность
– положив двести пятьдесят евро тебе в морскую жару. Полно места для твоей тёплой одежды и будущих книг
– лопатками и пятками меняясь местами
– думаю, что всё в порядке с карточкой. Просто такие дела очень сильно занимают время и нервы. Это очень далёкие вещи, которые почти никогда не совпадают, стараюсь ограничивать своё время на них
– занимают; далёкие; но все-таки что-то надо делать внешнее, частью, наверное, это ещё одна форма пути к тебе, для себя я тоже в такие раскопки не влезу. Ты в сон меня – когда встретимся – буду сну показывать всякое хорошее, может быть, он снова ко мне. Тут мне ему пока мало что, но буду собирать
– переплетением пены гороха с мелким песчаником
– память твоя бежит и убегает, может быть мне (только частично, но) быть ей?
– быть – не памятью
– кажется, дошло твое сталкивание – совсем сплю
– потолком затылком полыни с половиной луны (где и спуск) с центром тяжести
– полным книгами полом, расклёванным балконом вплывая в разговор крыш половину сна тебе, а в половину сейчас
– какие книги растут на орешнике? А на тополе?
– порой и я – в камнем устремлённых сеющих, расслаивающих воздух.
– твоё движение навстречу не званным названием рыбы теплым ливнем
– расставленностью чешуей раковиной хвостами вихрями-стопами, Бордо
– квартира сицилийской жарой и ломящимся виноградом
– и Темного Фому тогда заодно французского, он в шкафу около кресла
– Фома в шкафу около кровати
– может быть, мама поменяла все местами, она оставалась. Или сами, книги особенно
– квартира скребётся и ехидничает. Джемпер влез в чёрный рюкзак
– с собой гречка-Малларме-пустырник-зелёнка, клей днями куплю. Фотоаппарат?
– немного чернослива. Малларме и мешок да, фотоаппарат пока не знаю. У угломера не распознанным ракушечником улыбка больше человека, солнечный раз рез костью пьющей топь редкости меткий в муке бок птицы предместья налима. И стакан муки, если у тебя есть, для рыбы
– налим дружит с фламинго и меряется с ним извивами. Из моих фотокниг высунулась рука
– сведённая светом комната: к весне выбивают железо крыш и варят одежды для прорастания
– а ночь из квартиры уходит сейчас, та, которая приходит, и та, которая живёт. Может быть, заходят, проверяют, как ты
– голосом в момент чтения письма из него. Кажется, проверяешь голос со мной – есть ли
– в Милане – Giardini Pubblici как ориентир? там к северу километр до вокзала? Milano Garibaldi в 14.55
– Жардини большие, потеряемся, может, около Дуомо? чуть гречки – сколько? фотоаппарат ждёт твоего решения под шкафом
– еду в твою сторону и работаю как ископаемый скат. У листка из железного белья подпись «упаковщик 3/4» – видимо, он три четверти упаковывает, а остальное так отпускает?
– испарившимися лекциями все уже на каникулах. Забывая названия улиц, ориентируюсь по людям, радостью театра, тыквенной половиной дыни. Сегодня ветер колокольнями быстрых промежутков и стульев в делении Щ на два
– щ когда делится, часть возвращается в Европу L, часть сохраняет обособленность Ц
– дорогой разветвляя, пленку две черно-белые Ilford 36 кадров светочувствительность одну 400, а другую 1200–1600. Если нет – тоже 400. Позвони в шесть утра, если не будешь спать – боюсь проспать. Клубясь вокруг ночи
– сна в одном времени. Бегом лета вдоль моря
– инеем гор плетутся контуры тени – опаздываю на час
– от Гарибальди до Дуомо можно быстро на метро, билеты в табаччи. Я на возвышении у дверей
– Прижан пытается дроблению слов придать намерение нерационального\первобытного?
– слишком многое в ХХ веке работает на примитив. Разум, конечно, много что натворил, но примитив точно хуже, потому что тупее и безвыходен
– в коридоре сидит девушка и читает «Анну Каренину»! подарил «Анну Каренину» француз по дороге в Россию, то же издание читала француженка, ехавшая из Парижа во Флоренцию. Вот опять в поезде из Рима в Неаполь
Живое не цельно – из слоёв. Оно – то, что с ним было. И от перестановки слагаемых сумма меняется, так как одно видимо сквозь ранее бывшее другое. Память – не факты, а отложившееся.
Город начинается с подземелий. Был вынут оттуда, где текут ледяные реки с легкой рябью от подземного ветра. Под потолком, шершавым работой каменотёсов, с отверстиями, через которые вынимали город. На то и ручки у горла амфоры, чтобы опустить её за водой глубоко вниз. Казематы крепостей, рассчитанные чуть не на атомную войну – суше и выше.
Глубже – огонь Аида, корни бомб Везувия и Сольфатары. Которые дали поля для оливок, винограда и пшеницы, с чего всё началось. Которые в любой момент могут забрать. Свист и шипение безопасного вулкана для туристов – напоминание.
А город продолжает слоями. Греки оставили беспокойство и свободу. Римляне силу построек. За ними норманны, анжуйцы, арагонцы. Город пытались зацепить чудовищностью крепостей. Одна вросла в море, другая в землю, третья в гору. Против моря – а скорее против самого города. Белые ворота с завитками безнадежно сжаты башнями. Пленные силы. Но сильнее ломающего стены тарана – пренебрежение тех, кто не хочет иметь с властью ничего общего. И крепости превращаются в прибрежные скалы. Пена волн подпирает отвесность. Через амбразуры сейчас стреляет небо.
Опирающиеся друг на друга через улицу этажи. Улицы сквозь арки древнего театра. Дома на остатках акведука. Белизна фасада собора хочет напомнить о Милане или Сиене – но плоская крыша пришла от римских базилик. На улице древний верстак и модный мотоцикл. Газовая плита в древнеримском подвале, сложенном плоскими книгами кирпичей. Одежду вывешивают из окна, чтобы она пропиталась пылью города. Бумага объявлений въедается в стены. Становясь новыми и новыми слоями. Даже в музее особый слой, где висят наглядные пособия из лупанария Помпей, и сатир элегантно образует круг с козой, которую трахает.
Не хватает места. Церкви втискиваются в кварталы. Каждый дом хочет быть крепостью – даже с зубцами на крыше. Людям тесно в них, и они стремятся на улицы, вынося с собой тесноту. Хаос вначале пугает. А потом становится понятно, что ему нет до тебя дела – разве что до твоего кошелька, но кошелек можно и поберечь. Мир вообще обычно нами не интересуется.
Львы у собора в гладкости сна. Микроцеркви на улицах – как вынесенные на улицу столики кафе. Множество кукол. Рождественские домики с компанией волхвов и волов, манекены в форме американских и немецких войск, сценки XVIII века в подвале, святые на перекрестках. Нарисованного мало, надо потрогать. Жестяные акробаты держат звёзды на ладони или пятке. Быковолки под кометами на улицах. Замок на цепочке влез внутрь фонаря. Внутри другого фонаря – лента-девушка, в третьем идущий странник, в четвёртом глаза. Стоящий на книгах состоит из книг. Змеи по углам многократно переплелись с собой, но спрятали головы в камень.


