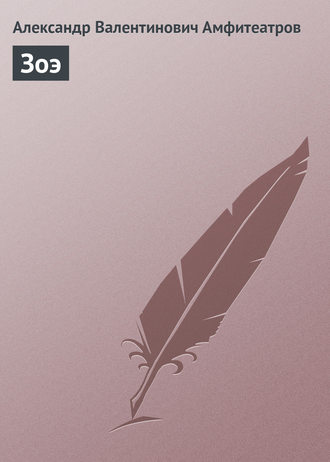
Александр Амфитеатров
Зоэ
Мы редко видались, когда ты была жива. Мы не были друзьями. Больше: мы не любили друг друга. Правда: я любовался тобой, но вчуже, как любуются картиной, проникнутой духом могучей художественной силы.
Она дышала в тебе навстречу каждому и тянула к себе людей, как магнит железо. Казалось, богатство твоей души тяготило тебя самое. Демон, служащий чародею, если нет ему работы, начинает мучить самого чародея. Талант – тот же демон. Тебя волновала смутная жажда деятельности – могучей и великолепной. А я думал:
– Эта девушка – не знаю, чем будет, но способна быть всем, чем захочет. Но, на свое горе, она сама не знает, чем ей быть… и, быть может, никогда не узнает.
Ты знала, что я так думаю, и не любила меня именно за это. Я гордился твоей любовью: она выделяла меня из толпы поклонявшихся тебе друзей – рабов, которых ты и любила, и презирала.
Такова уже судьба человека: не уважать тех, кто любит нас слишком наивно, и не любить тех, кто понимает нас слишком хорошо. Потому что, раз человек понял другого, между ними нет уже места поклонению; они осуждены на равенство, ненавистное гордому духу. Женскому – в особенности. Женщина должна быть или рабой, или царицей; в равенстве ей скучно и душно.
Наши встречи и беседы – дружеские на вид – были полны тайного недоброжелательства, заметного лишь для нас двоих. Наши шутки были слишком злы. Мы любили ловить друг друга на неловком слове, неловком обороте речи, на каждой недомолвке, каждой непоследовательности.
За глаза и в глаза мы трунили друг над другом, стараясь нанести как можно больше ударов и моему, и твоему самолюбию, и чтобы удары попадали как можно больнее и глубже. А самолюбия были огромны…
Часто наблюдал я, как твой взор – глубокий взор сероглазой королевы эльфов: мечтательный и властный, туманный и повелительный, – неподвижно застывал где-то вдали, на воображаемой точке, видной тебе одной. И мне хотелось спросить:
– Какой трон рисует вам гордый полет воображения? Какого сказочного принца, чтобы взвести вас на этот трон?
Пришел и принц. Ты полюбила и стала женой любимого человека. Я равнодушно приветствовал твое молодое счастье… короткое, жалкое счастье нескольких дней.
Королева фей! Ты на сцену смотрела как на жизнь, а на жизнь, как на сцену… Когда спектакль любви кончился, когда упали пестро раскрашенные кулисы, когда очаровательный театральный принц снял с лица румяна и белила, а с плеч мишурный кафтан, – ты растерялась… смутилась… ужаснулась.
Вся юность твоя была поэтическим самообманом величия и красоты. И все рухнуло. Нет ни трона, ни принца, – есть красавец-муж в толстом пиджаке и широких штанах, который больше всего на свете боится, как бы твои фантазии не перешли в истерику.







