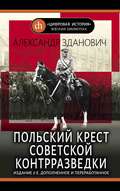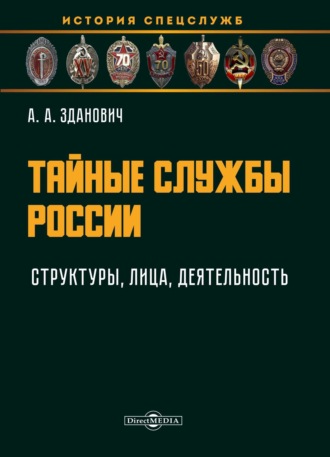
Александр Зданович
Тайные службы России: структуры, лица, деятельность
III. Кадровый состав российских органов безопасности, специальные средства их оперативной деятельности
На рубеже XIX–XX вв. основная масса руководителей и оперативного состава политической полиции, а с 1903 г. и контрразведки была представлена офицерами Отдельного корпуса жандармов МВД. Профессиональную подготовку кандидаты на работу в ОКЖ проходили на специальных курсах в г. Санкт-Петербурге, где они в течение 4–4,5 месяцев изучали устройство корпуса жандармов, права и обязанности его чинов по производству формальных дознаний и переписок, историю революционного движения и политического сыска.
Офицеры, выдержавшие выпускные экзамены, переводились высочайшим приказом в Отдельный корпус жандармов. В зависимости от имеющихся вакансий и желания выпускники распределялись в губернские жандармские управления, жандармские полицейские управления железных дорог или же в охранные отделения. Нижние чины корпуса жандармов набирались, как правило, из отставных унтер-офицеров армии и флота.
Штаты губернских жандармских управлений были в то время весьма немногочисленными. Даже в таких крупных губерниях, как, например, Киевская, они насчитывали порядка 40–50 человек, главным образом унтер-офицерского состава.
Основную тяжесть в борьбе с революционным движением в конце XIX – начале XX вв. приняли на себя охранные отделения. Согласно Положению «Об устройстве секретной полиции в империи» 1882 г. в штате этих подразделений могли работать как офицеры корпуса жандармов, так и гражданские чиновники. Последних причисляли к Департаменту полиции или к управлению общей полицией.
Помимо начальника и помощника начальника, в охранных отделениях существовали такие категории должностных лиц как чины для поручений, старшие и младшие наблюдательные агенты (филеры), а также вспомогательный персонал (делопроизводители, фотографы, курьеры и т. п.).
Организуя борьбу с революционным движением, охранные отделения и губернские жандармские управления опирались на такие специальные средства, как агентура, наружное наблюдение, перлюстрация корреспонденции.
Основы агентурной работы были заложены еще в 60–70 гг. XIX в. чиновниками III Отделения. Заслуга нового поколения «охранников», пришедших к руководству политическим сыском в начале XX в., заключалась в том, что впервые в истории российских спецслужб работа с негласными помощниками приобрела систематический характер и была поставлена профессионально. Именно сотрудники охранных отделений пришли к пониманию роли агентуры как главного средства в решении задач политического сыска, сформулировали основные принципы работы с ней «Инструкция по организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения». Разработанная ориентировочно в 1907 г. в Особом отделе Департамента полиции явилась, по существу, первым в истории Российского государства подобного рода нормативным актом. Она послужила фундаментом, отправной точкой для разработки последующих аналогичных документов.
В инструкции раскрыты задачи, решаемые с помощью внутренней агентуры, вопросы подбора, проверки, вербовки секретных помощников, работы с ними (по терминологии того времени «ведения агентуры»), реализации агентурных данных. Особое внимание уделялось конспирации и сохранению в тайне личности агента.
Сотрудничество, за редким исключением, осуществлялось на материальной основе. Вознаграждение секретным помощникам выплачивалось, как правило, в сумме от 3 до 50 рублей в месяц, однако, наиболее ценные агенты получали 300 и более рублей.
Завербованная агентура охранных отделений делилась на определенные виды. Лица, сотрудничавшие с розыскным учреждением на постоянной основе и входившие в какую-либо революционную организацию, назывались «агентами внутреннего наблюдения». Лица, не являвшиеся членами «преступного сообщества», но выполнявшие различные поручения и тем самым содействовавшие розыску, относились к «вспомогательным агентам». И, наконец, лица, поставлявшие охранным отделениям сведения в каждом случае за отдельную плату, назывались «штучниками». Последняя категория агентов признавалась в принципе нежелательной, так как не обладала качествами постоянных агентов.
В охранных отделениях и жандармских управлениях агентов разбивали на группы в соответствии с политическими партиями, к которым они формально принадлежали (социал-демократы, эсеры, анархисты и т. п.). Работу с каждой из этих групп вел жандармский офицер или чин для поручений. Встречи с агентами проводились регулярно на конспиративных квартирах, причем, одна такая квартира была рассчитана на прием 3–5 негласных помощников.
В целом органы политического сыска Российской империи создали на рубеже веков количественно небольшой, но весьма качественный агентурный аппарат. На конец 1916 г. его численность составляла не более 1,5 тысяч человек, однако, данное количество источников обеспечивало в основном все потребности оперативной и информационной работы.
Несмотря на достаточно высокую эффективность и отдачу, агентурный аппарат охранных отделений был весьма уязвимым с точки зрения его надежности. Как с сожалением отмечали сотрудники политической полиции, среди лиц, сотрудничавших с охранными отделениями, практически не было таких, кто делал бы это по идейным убеждениям. Не была до конца разрешена и проблема обеспечения безопасности самих негласных помощников, которые в случае разоблачения нередко оплачивали жизнью связь с жандармскими учреждениями. Особенно жестким было отношение к предателям в партии эсеров.
Согласно взглядам С. В. Зубатова и других руководителей политического сыска, агенты наружного наблюдения (филеры) были необходимы для дальнейшей разработки данных, поступивших от агентуры внутренней, то есть, наружное наблюдение являлось как бы вторым этапом оперативной разработки конкретных лиц или революционных организаций. Наблюдая за своими объектами на улицах, в общественных местах, филеры выясняли их связи, места встреч, фиксировали конкретные противоправные действия. Тактика ведения наружного наблюдения постепенно совершенствовалась. Чтобы повысить подвижность наблюдения, были заведены собственные конные выезды, филеры научились приспосабливаться к обстоятельствам, выдавать себя за лиц других профессий. Особенно громкой славой пользовался «летучий отряд» филеров Московского охранного отделения, которым руководил Е. П. Медников. Отряд разъезжал по всей территории России, выполняя наиболее сложные задания. Позднее на его базе был образован отряд филеров при Департаменте полиции МВД.
В 1902 г. С. В. Зубатовым и Е. П. Медниковым была разработана первая специальная «Инструкция филерам Летучего отряда и филерам розыскных и охранных отделений».
Наряду с внутренней и внешней агентурой (филерами) многие сведения, интересующие политический сыск, становились известны Департаменту полиции и местным органам в ходе перлюстрации корреспонденции.
Пункты перлюстрации («Черные кабинеты») существовали на рубеже XIX–XX вв. в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе, Киеве, Харькове, Риге, Тифлисе, Томске и Вильне. В последних трех городах незадолго до революции 1917 г. эти пункты были закрыты. Кроме того, по мере надобности «черные кабинеты» открывались в Нижнем Новгороде и Казани.
Перлюстрации подлежали письма политических деятелей и революционеров, а также видных государственных чиновников. Послания революционеров подвергались обработке различными кислотами в целях проявления скрытого текста, в случае необходимости они расшифровывались и копии их пересылались местным органам политического сыска. После перлюстрации вскрытые почтовые отправления приводились в первоначальный вид. Данные перлюстрации в процессе официального дознания не фигурировали и могли быть использованы только в оперативных целях. Что касается копий писем видных царских сановников, то они поступали в личное распоряжение министра внутренних дел.
Решая в 1908–1911 гг. вопрос о внутренней структуре создаваемых контрразведывательных подразделений и укомплектовании их кадрами, участники межведомственной комиссии решили использовать в качестве образца охранные отделения Департамента полиции МВД, которые к этому времени показали себя весьма эффективными оперативно-розыскными органами.
В рамках достигнутой договоренности между военным ведомством и МВД на должности руководителей всех образованных в 1911 г. контрразведывательных отделений были прикомандированы офицеры Отдельного корпуса жандармов, имевшие опыт оперативно-розыскной работы. К примеру, первым начальником КРО штаба Московского военного округа стал бывший помощник начальника Московского охранного отделения жандармский подполковник князь В. Г. Туркистанов.
Оказавшись во главе контрразведывательных подразделений, жандармские офицеры-розыскники в короткое время поставили на должный уровень работу с агентурным аппаратом, активно использовали при решении контрразведывательных задач наружное наблюдение и перлюстрацию корреспонденции. К тому же они достаточно легко находили взаимопонимание со своими бывшими коллегами в жандармских и полицейских учреждениях, используя возможности последних в интересах контрразведки.
Также как и в охранных отделениях, кроме руководителей КРО в работе с агентурой участвовали чины для поручений (от одной до трех должностей в отделении). Они руководили проверкой поступивших сигналов о шпионаже, вербовали новую агентуру, позднее, в годы Первой мировой войны, часто выступали в роли начальников контрразведывательных пунктов. На должность чина для поручений, как правило, приглашались бывшие служащие полиции, суда, другие лица, имевшие определенную юридическую подготовку.
Старшие наблюдательные агенты отвечали за организацию в отделении наружного наблюдения, а также проводили в необходимых случаях оперативную установку на интересовавших контрразведку лиц. Самой многочисленной категорией служащих контрразведывательных отделений являлись младшие наблюдательные агенты (филеры). В зависимости от важности и величины территории обслуживаемого района в каждом КРО насчитывалось от 6 до 12 таких служащих.
Все чины КРО, за исключением начальника и помощника начальника отделения, набирались на службу в контрразведке по вольному найму самими руководителями контрразведывательных подразделений. Они не имели воинских званий и не считались состоящими на государственной службе.
Контрразведывательные отделения насчитывали, как правило, порядка 20–30 человек сотрудников. Эта численность явно не соответствовала объему решавшихся ими задач, так как каждое КРО в мирное время обслуживало в контрразведывательном плане территорию нескольких губерний. Только в годы Первой мировой войны количество сотрудников в КРО несколько выросло.
Вплоть до 1917 г. военное ведомство не пыталось организовать специальную подготовку для личного состава контрразведки. После Февральской революции Временное правительство по политическим мотивам приняло решение уволить из органов контрразведки бывших жандармов и заменить их армейскими офицерами. В результате данной акции российская контрразведка была фактически обезглавлена, так как абсолютное большинство руководителей КРО в тылу и на фронте являлись жандармскими офицерами. Для того, чтобы выправить положение, при Главном управлении Генерального штаба были организованы месячные курсы по подготовке начальников и помощников начальников контрразведывательных отделений. При КРО штабов фронтов одновременно разворачивались курсы по обучению наблюдательных агентов для органов контрразведки, подобранных из числа солдат и унтер-офицеров. Продолжению этой работы помешала Октябрьская революция 1917 г.
Решая задачи по выявлению иностранного шпионажа, контрразведывательные отделения опирались на традиционные специальные средства. Согласно «Инструкции начальникам контрразведывательных отделений» 1911 г., весь агентурный аппарат контрразведки делился на две категории: «штабную» и «консульскую агентуру».
«Консульская» агентура вербовалась из числа обслуживающего персонала аккредитованных в России иностранных дипломатических представительств. Она предназначалась для выявления разведчиков-дипломатов, а также завербованных ими агентов из числа российских граждан.
«Штабная» агентура приобреталась в основном среди гражданских лиц, солдат и унтер-офицеров срочной службы, работавших или проходивших службу в военных штабах и учреждениях. Вербовка офицерского состава допускалась лишь в исключительных случаях. Как правило, вся агентура сотрудничала с КРО на платной основе. Рабочие встречи с ней проводились на специально приобретаемых конспиративных квартирах.
Важная роль в разработке лиц, подозревавшихся в шпионаже, отводилась наружному наблюдению. Следует учитывать, что многие сотрудники наружного наблюдения пришли в контрразведку в момент ее создания из подразделений политической или сыскной полиции. Их работа регламентировалась специальными инструкциями, где подробно описывались основные задачи, приемы и методы ведения скрытого наблюдения.
Существенным подспорьем в деле выявления иностранного шпионажа являлись материалы перлюстрации корреспонденции. Однако при организации самой перлюстрации руководители КРО сталкивались с серьезными трудностями. Нормативной базы, определявшей права контрразведчиков по использованию перлюстрации, не существовало. Поэтому руководители КРО вынуждены были прибегать для получения интересующих их материалов перлюстрации к помощи соответствующих жандармских управлений и охранных отделений, либо приобретать в этих целях агентуру в почтовых учреждениях.
В сфере российской внешней разведки на рубеже XIX–XX вв. оперативной работой занимались главным образом кадровые сотрудники МИД и некоторых других ведомств, которых нельзя отнести к разведчикам-профессионалам. Исключение составляют Военное и Военно-Морское министерства, где еще во второй половине XIX в. появились должности военных агентов, которые обычно замещались наиболее способными и владевшими иностранными языками офицерами Генерального штаба.
После создания в 1906 г. системы разведывательных отделений при штабах военных округов круг должностных лиц, чьей основной обязанностью являлся сбор разведывательной информации, существенно расширился. Однако полноценной профессиональной подготовки кадров разведчиков вплоть до Октябрьской революции 1917 г. в России не было, что отрицательно сказывалось на эффективности их работы.
Необходимые навыки организации и ведения разведки армейским и флотским офицерам, назначенным на соответствующие должности, приходилось приобретать в ходе практической деятельности.
IV. Основные направления деятельности органов безопасности российской империи в конце XIX – начале XX вв
Всю деятельность органов безопасности России на рубеже XIX–XX вв. можно разделить на три основных направления: борьбу с революционным движением, контрразведку и внешнюю разведку. Первое из этих направлений по объему работы и важности для судеб страны значительно превосходило остальные.
1. Борьба с революционным движением
В российском революционном движении конца XIX – начала XX вв. имелось значительное число партий, организаций, платформ и течений. Однако внимание органов политического сыска привлекали в первую очередь те из них, которые брали на вооружение методы террора.
В 1879–1881 гг. ряд успешных террористических актов был совершен представителями организации «Народная воля», что вынудило Александра III заменить руководство органов политического сыска. Инспектором политической полиции и начальником Петербургского охранного отделения в 1882 г. был назначен ротмистр корпуса жандармов Г. П. Судейкин.
Возглавив политический сыск, Судейкин принял меры по внедрению агентуры полиции в революционные кружки и группы народников. В 1883 г. с помощью завербованного агента С. Дегаева Петербургскому охранному отделению удалось выявить и ликвидировать группу народовольцев, занимавшуюся на частной квартире производством динамита, а также арестовать находившуюся на нелегальном положении члена Исполкома «Народной воли» В. Н. Фигнер.
В период с 28 марта по 5 апреля 1883 г. в Петербурге состоялся судебный процесс по делу арестованных народовольцев («Процесс семнадцати»). Шестеро членов группы были приговорены к смертной казни, остальные – к каторге и ссылке в Сибирь.
Следующим успехом Г. П. Судейкина стала ликвидация типографии «Народной воли», располагавшейся в г. Одессе. Однако вскоре, в декабре 1883 г., он был убит народовольцами.
К середине 1880-х гг. учреждениям политического сыска в основном удалось ликвидировать террористические группы народовольцев. Наиболее видные деятели движения были казнены или находились в тюрьмах и ссылках. В силу этих обстоятельств центр революционной активности переместился с территории России за границу, куда уехали уцелевшие народовольцы.
В этот период за границей начинают образовываться и первые социал-демократические группы, в том числе группа «Освобождение труда» во главе с Г. В. Плехановым. Соответственно изменившимся обстоятельствам Департамент полиции уделяет все больше внимания контролю за российской революционной эмиграцией во Франции, Швейцарии, Германии и некоторых других странах. Весной 1884 г. в Париж для заведования заграничной агентурой был направлен бывший помощник Судейкина П. И. Рачковский.
На территории собственно Российской империи на протяжении второй половины 1880-х – 1890-е гг. имели место отдельные покушения революционеров на представителей власти, но в целом этот период был более спокойным в плане террористической деятельности. Неудачей закончилась подготовка к убийству Александра III, назначенному на 1 марта 1887 г. Полиции удалось предотвратить террористический акт и 15 членов кружка, в том числе А. И. Ульянов, были арестованы и преданы суду.
Ведущую роль в борьбе с остатками групп народников играло Московское охранное отделение во главе с С. В. Зубатовым. В 1894 г. оно разгромило партию «Народное право» М. А. Натансона и раскрыло ее типографию в Смоленске. В Москве был выявлен террористический кружок студента Распутина, поставивший целью убийство Николая II во время приезда царя в этот город на коронационные торжества.
В 1900 г. С. В. Зубатов и его подчиненные активно работали по «Рабочей партии политического освобождения России». В конечном итоге сотрудникам политического сыска удалось арестовать в северо-западных губерниях России ряд активных членов партии, а также захватить ее минскую типографию.
Удары, нанесенные полицией по революционерам были весьма ощутимыми. Но Департаменту полиции МВД не удалось остановить рост революционного движения и возникновение новых политических партий. В 1897 г. возник «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» («Бунд»), объединивший все еврейские социал-демократические группы. В 1898 г. в Минске состоялся съезд, на котором была образована «Российская социал-демократическая рабочая партия» (РСДРП). В январе 1902 г. за границей официально была образована «Партия социалистов-революционеров» с центральным печатным органом «Революционная Россия» и девизом «В борьбе обретешь ты право свое!» Наблюдая за попытками социал-демократов встать во главе рабочего движения, начальник Московского охранного отделения С. В. Зубатов пришел к идее создания лояльного царскому правительству мирного профессионального рабочего движения. Такая «легализация» рабочего движения получила впоследствии название «зубатовщины».
В Москве был образован ряд рабочих кружков, где проводились соответствующие лекции и занятия. Одновременно, зная через агентуру о реальном положении на фабриках и заводах, охранное отделение приходило на помощь рабочим в случае несправедливых действий администрации. На 1902 г. пришелся расцвет зубатовских организаций в Москве. 22 февраля они устроили 45 тысячную манифестацию с возложением венка к памятнику царю – «освободителю» Александру II.
Аналогичные «общества» были созданы в начале 1903 г. в Санкт-Петербурге и Одессе. Однако «легализация» в Одессе закончилась летом 1903 г. большой забастовкой, в которой приняли участие главным образом сорганизованные полицией рабочие. Этот провал, наряду с некоторыми другими обстоятельствами, стал причиной увольнения С. В. Зубатова из политической полиции.
Отказавшись от «легализации», охранные отделения на местах стали прибегать в борьбе с революционным движением к двум основным методам. Суть первого из них заключалась в том, что революционной организации давали сплотиться, а затем ликвидировали ее, чтобы дать прокуратуре как можно больше доказательств виновности ее членов. Второй метод сводился к нанесению систематических ударов по революционным кругам, чтобы мешать их работе, не давать сорганизоваться, то есть действовать в основном на упреждение. Сторонниками последнего метода являлись А. В. Герасимов, А. И. Спиридович и некоторые другие видные деятели политического сыска.
В более простых ситуациях, например, для предотвращения или разгона первомайских митингов, охранные отделения обходились простой демонстрацией силы или упреждающими задержаниями организаторов сроком на 2–3 недели.
Основной упор в работе охранных отделений и ГЖУ по возникшим революционным партиям и рабочему движению делался на использование внутренней агентуры. После революции 1917 г. стали известны имена ряда видных революционеров, активно сотрудничавших с политической полицией. Так, успехи Московского охранного отделения в борьбе с большевиками во многом были связаны, в частности, с информацией, полученной от завербованного в 1902 г. агента Я. А. Житомирского. Последний входил в берлинскую группу ленинской «Искры», участвовал в 1907 г. в V (Лондонском) съезде РСДРП и других совещаниях и конференциях социал-демократов. Важные сведения поставляли органам политического сыска внутренние агенты З. Ф. Жученко-Гернгросс, М. И. Гурович, Л. Д. Бейтнер и др.
Начиная с 1901 г. внутриполитическая ситуация в стране обострилась в связи с переходом ряда революционных организаций, впоследствии образовавших партию эсеров, к тактике террора. 14 февраля, бывший студент П. В. Карпович выстрелом из револьвера смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова, 9 марта Н. Лаговский пытался убить обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева. Специально для осуществления террористических актов в конце 1901 г. эсеры создали Боевую организация (БО). Ее основателем и первым руководителем стал Г. А. Гершуни.
2 апреля 1902 г. эсерам удалось еще более дерзкое покушение – С. В. Балмашов двумя выстрелами из револьвера смертельно ранил министра внутренних дел Д. С. Сипягина.
Департамент полиции и местные органы политического сыска активно включились в работу по поиску членов БО эсеров. Г. А. Гершуни был объявлен во всероссийский розыск. 13 мая 1903 г. руководителя БО удалось арестовать в Киеве сотрудникам местного охранного отделения, получившим агентурные данные о его предстоящем приезде.
После ареста Гершуни во главе БО партии эсеров оказался агент Департамента полиции Е. Ф. Азеф. Опасаясь быть заподозренным в предательстве, он скрыл от Департамента полиции факт подготовки к новому громкому террористическому акту. В результате органы политического сыска оказались бессильными предотвратить убийство эсерами 15 июля 1904 г. министра внутренних дел В. К. Плеве.
Поздней осенью 1904 г. руководители Боевой организации и члены ЦК партии эсеров приняли решение совершить одновременно серию покушений на придворных сановников. Боевой организацией были сформированы три отдельных «летучих» отряда.
Петербургскому отряду во главе с М. Швейцером была поставлена задача организовать взрыв 14 марта 1905 г. во время торжественной панихиды с участием царской семьи в церкви при Петропавловской крепости. Однако в ночь на 11 марта Швейцер погиб в результате взрыва заряжаемой бомбы в номере гостиницы «Бристоль». Начальник Петербургского охранного отделения А. В. Герасимов правильно оценил ситуацию и принял все меры к выявлению через агентуру и задержанию остальных террористов. К концу марта 1905 г. вся группа численностью в 20 человек была арестована.
Направленный в Киев отряд Боришанского в составе трех человек не выполнил своего поручения благодаря грамотной работе местного охранного отделения. Через имеющуюся агентуру начальнику охранного отделения А. И. Спиридовичу удалось внушить потенциальным исполнителям, что предполагаемый объект покушения – генерал-губернатор Н. В. Клейгельс не дает своим поведением никаких оснований для таких действий и, следовательно, убийство не произведет должного впечатления.
Удача сопутствовала эсерам-боевикам только в Москве, где террористический отряд возглавлял Б. В. Савинков. 4 февраля 1905 г. И. К. Каляеву удалось убить великого князя Сергея Александровича.
Незавидную роль сыграла политическая полиция в известных событиях 9 января 1905 г., получивших название «Кровавого воскресенья». После увольнения в 1903 г. С. В. Зубатова Департамент полиции фактически не контролировал деятельность петербургской проправительственной рабочей организации, созданной им и насчитывавшей более 10 тыс. человек, во главе которой стоял агент политической полиции священник Г. А. Гапон.
Увольнение в конце 1904 г. директором Путиловского завода четырех рабочих-членов общества Гапона привело к забастовке, охватившей практически весь Петербург. 9 января 1905 г. организованное Гапоном мирное шествие рабочих с петицией к царю было расстреляно войсками. Это событие стало началом Первой русской революции.
К осени 1905 г. Россию захлестнула волна выступлений рабочих и других слоев населения, а 19 сентября началась самая крупная в истории страны всеобщая забастовка, которая постепенно распространилась почти на все отрасли промышленности и другие сферы экономики. 13 октября в Петербурге образовался Совет рабочих депутатов.
Под давлением общественного мнения, прессы, чувствуя колебания в верхних эшелонах власти, Департамент полиции и местные руководители жандармских органов с лета 1905 г. избегали применять такие жесткие и непопулярные меры пресечения революционной деятельности, как аресты и высылки. Исключение делалось только для революционеров-террористов. По-видимому, товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией и командующий корпусом жандармов Д. Ф. Трепов, другие руководители политической полиции возлагали большие надежды на предстоящее появление Манифеста о гражданских свободах и выборах в Думу.
17 октября Манифест был опубликован, однако успокоения в России и, в частности, в Петербурге, не наступило. Более того, Петербургский Совет рабочих депутатов начал превращаться в действительный орган власти, который приступил к созданию собственной милиции. В столице наблюдалось постепенное революционное разложение частей гарнизона.
Начальник Петербургского охранного отделения А. В. Герасимов долгое время не мог получить разрешения министра внутренних дел П. Н. Дурново на арест членов Совета. Только в начале декабря, в условиях резкого обострения ситуации в Москве, где дело дошло до вооруженного восстания, власти решились на проведение жестких карательных мер.
В ночь с 7 на 8 декабря 1905 г. в Петербурге было произведено около 350 обысков, захвачено 3 лаборатории по изготовлению динамита, около 500 готовых бомб, много оружия, несколько нелегальных типографий. В ряде случаев революционеры оказывали вооруженное сопротивление. На следующий день политическая полиция осуществила в городе еще 400 обысков и арестов, что позволило предотвратить вооруженное восстание в столице.
Во все жандармские управления и охранные отделения империи была разослана телеграмма о необходимости немедленного ареста руководителей революционных партий и организаций, подавления антиправительственных выступлений, не останавливаясь перед применением военной силы. В помощь политической полиции была привлечена армия. Тем не менее, покончить с открытыми выступлениями правительству удалось в основном лишь к весне 1906 г.
В период Первой русской революции органы политического сыска столкнулись с масштабной волной террора. Своего апогея терроризм достиг в 1906 г., когда в России было совершено 4 742 покушения на должностных и частных лиц. В результате 738 царских чиновников были убиты и 972 ранены. Такое большое число жертв объясняется тем, что к методам террора накануне и в ходе революции перешли, наряду с эсерами, анархисты и некоторые другие политические партии.
Террористические акты анархистов, в частности, были направлены против высших чинов администрации, полицейских и представителей судебных органов. Однако часть боевых акций анархистов являлась «безмотивной» и служила цели запугивания «класса эксплуататоров». Жертвами террора становились в таких случаях совершенно случайные люди.
Нередко организации анархистов практиковали и так называемые «экспроприации» («эксы»), то есть вооруженные нападения с целью получения денег на нужды революционного движения. Годы Первой русской революции стали для анархистов временем непрекращающихся террористических актов и экспроприаций, вооруженных сопротивлений и грабежей. Однако террористическая деятельность анархистских групп и организаций все-таки не представляла серьезной опасности для первых лиц государства и привлекала внимание охранных учреждений в гораздо меньшей степени, чем аналогичная деятельность эсеров.
Борьба охранных отделений с политическим террором эсеров шла в годы революции с переменным успехом. Если деятельность центрального органа – Боевой организации, благодаря наличию в ее руководстве Азефа, Департаменту полиции в какой-то степени удавалось нейтрализовать, то предотвратить террористические акты местных эсеровских организаций они зачастую были не в силах. Так, 28 июня 1905 г. эсерами был убит московский градоначальник граф П. А. Шувалов. В июле 1906 г. они едва не взорвали здание Московского охранного отделения.
В связи с учреждением Государственной Думы Манифестом 17 октября 1905 г. ЦК партии эсеров принял решение прекратить террористическую борьбу. Но наиболее радикально настроенная часть социалистов-революционеров подвергла критике решение руководства партии и образовала самостоятельный союз эсеров-«максималистов». Пик деятельности этой организации приходится на 1907 г., когда в России и за рубежом насчитывалось около 70 групп «максималистов» общей численностью 2–2,5 тыс. человек.