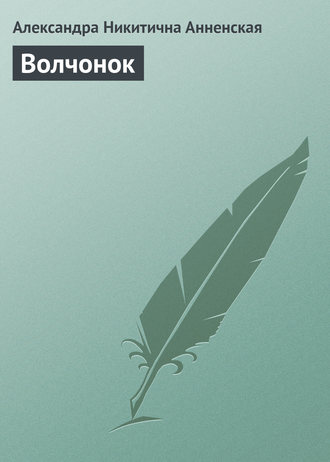
Александра Никитична Анненская
Волчонок
Глава IX
В один весенний день толпа мальчиков-гимназистов с шумом выбежав из подъезда дома гимназии, собралась на углу улицы и о чем-то горячо рассуждала.
– Это ни на что не похоже! – кипятился стройный четырнадцатилетний мальчик с тонкими чертами лица и большими темными глазами. – Если мы будем все спускать ему, он, пожалуй, станет бить нас!
– Да ведь он и то вчера ткнул Харламова пальцем в лоб, – подхватил другой гимназист.
– Назвать ученика второго класса дураком! Да этого даже в приготовительном нельзя позволить! – горячился третий.
– Больной да больной! – говорил четвертый: – коли болен, так зачем в учителя пошел? Мы не виноваты в его болезни!
– Мы должны чем-нибудь заявить ему свое неудовольствие! – опять заговорил первый мальчик.
– Давайте, не будем отвечать ему уроков! – предложил один толстенький мальчуган, усевшийся на тумбу и все время полоскавший ноги в луже воды.
– Ну уж ты, Тюрин! «Не отвечать»! – Экзамены на носу, а он «не отвечать» Влепят тебе единицу, – вот и не перейдешь! – возразило несколько голосов.
– Я все равно не перейду, – спокойно проговорил Тюрин.
– Нет, вот что лучше, господа, – предложил темноглазый мальчик, – освищем его. В субботу будет его урок; как только он взойдет на кафедру, давайте свистать все, всем классом?
– Пожалуй директор придет, – заметил кто-то.
– Ну что же такое! Накажет весь класс – не беда! А мы и директору объясним в чем дело…
– Конечно, мы скажем, что не хотим, чтобы нас называли дураками, безмозглыми; чтобы нам тыкали пальцем в лоб…
– Чтобы у нас вырывали из рук мел!
– И так, решено, в субботу освищем?
– Да, да, все будем свистать изо всей силы.
В эту минуту к группе говорящих подходил мальчик лет тринадцати, худощавый, высокий, с белокурыми торчащими волосами и маленькими глазками, глубоко засевшими под густыми бровями. Это был наш старый знакомец Илюша, по прозванию Волчонок. Форменное пальто, кепи с серебряным значком и ранец за плечами показывают, что горячее желание мальчика исполнилось, что он имеет возможность учиться.
– А, Павлов, – закричали навстречу ему гимназисты. – Иди скорее сюда! Мы ведь тут и о тебе говорили! Хорошо назвал тебя сегодня Курбатов? Понравилось это тебе?
– Как назвал? Я и не знаю, – проговорил Илюша, растерянно поглядывая на товарищей.
– Отлично! – закричали мальчики. – Его называют дураком, а ему и нипочем!
– Он и не знает!? Хорош!
– Ты, верно, привык к этому дома?
– Конечно, его и прибьют, ему ничего: ведь он в лакеях живет! Барин может быть и часто лупит его! – подсмеивались мальчики.
– Никто меня не бьет! Пустите меня! – сумрачно проговорил Илюша, стараясь протискаться сквозь толпу, шумевшую около него.
– Чего там «пустите»! – закричали мальчики. – Ты или в самом деле дурак, или не понимаешь, как с тобой должны обращаться… Если это тебе все равно, так нам не все равно: сегодня обругали тебя, завтра обругают меня, а я этого не терплю. Мы Курбатова освищем в субботу, слышишь?
– Слышу, – неохотно отвечал Илюша и, сделав еще усилие, выбрался наконец из толпы и зашагал дальше по улице.
– И ты должен также свистать с нами! – кричали мальчики, догоняя его.
– И если директор спросит, должен сказать, что он тебя назвал дураком!
– Да ну, хорошо, отвяжитесь!
И Илюша еще больше ускорил шаг.
– Экий дурак этот Павлов! – толковали мальчики, разбиваясь на мелкие группы и расходясь в разные стороны. – И обидеться-то не умеет!
– Волчком каким-то вечно глядит, с ним и не сговоришь.
– А не выдаст он нас?
– Вот еще! Не посмеет!
Илюша отошел от товарищей в очень неприятном настроении духа. Он, конечно, отлично слышал, что учитель математики назвал его «дураком» за то, что он запутался при решении какой-то сложной задачи, но ни в ту минуту, ни после он и не подумал обидеться. В ту минуту он был совершенно поглощен своей задачей, да и учитель казался заинтересованным его ответом и бранное слово сорвалось с его языка просто от нетерпения, что этот ожидаемый и, по-видимому, такой простой ответ не сразу дается ученику.
«И отчего это им обидно, а мне нет? – рассуждал про себя мальчик. – Может, и вправду оттого, что я не такой, как они: они господа, их не бьют, не ругают, а меня?..»
И вспомнились мальчику побои отца и матери, грубые шутки лакейской, потасовки мастерской, брань дворников, которые и теперь, по старой памяти, часто требовали его услуг и не скупились на крепкие словца; насмешки Сергея Степановича… Что значило сравнительно со всем этим слово «дурак», сказанное невзначай, без обидного умысла и еще кем? – его любимым учителем, который так усердно занимается, так отлично все объясняет… «А все-таки я – гимназист, он не смеет так называть меня!» – сказал себе Илюша мысленно, повторяя слова товарищей.
– Илюша, болван! чего зазевался? Господа уж пришли домой! – раздался голос над самым его ухом.
Это был его знакомый лавочник, кум Архипа, в прежние годы часто угощавший его леденцами и рожками и теперь считавший себя в праве бесцеремонно обходиться с ним.
«Он не смеет! А этот смеет? Все другие смеют!» – мелькнуло в голове мальчика; он горько усмехнулся и ускорил шаг, чтобы не получить выговора за дурное исполнение своих лакейских обязанностей.
Хотя Илюша уже второй год учился в гимназии, но он жил у Петра Степановича в том же положении, что и прежде. По-прежнему спал он на тощем тюфячке в кухне, и там же готовил свои уроки; по-прежнему исполнял разные мелкие домашние работы.
Петр Степанович был слишком беден, чтобы доставлять большие удобства своему воспитаннику, да и не считал этого нужным. Он боялся повредить мальчику, отучив его от простой, рабочей жизни, сделав из него барчонка, белоручку, и потому в занятиях Илюши не находил ничего ни дурного, ни унизительного. Обходился он с ним всегда дружески, ласково, и обращал на него мало внимания только потому, что вообще не любил возиться с детьми и был постоянно сильно занят своими книгами.
К сожалению, не все смотрели на Илюшу глазами Петра Степановича. Прежде всего, Сергей Степанович возмущался тем, что брат вздумал учить Илюшу, и на каждом шагу старался доказать мальчику, что он ему не родня, что он «обязан» услуживать ему и терпеливо выносить его выговоры и насмешки. Для тетки Авдотьи, для всех соседних лавочников, дворников и кучеров, Илюша, несмотря на свой гимназический мундир, оставался по-прежнему «мальчишкой», «лакеишком». Все они находили, что его поступление в гимназию было баловством, пустяком, а что настоящее для него дело – это служить и угождать господам.
Товарищи гимназисты, узнав об образе жизни Илюши, не упускали случая попрекнуть его, подсмеяться над ним, Вообще, в гимназии его сразу невзлюбили. Он всегда рос одиноким ребенком, не привык к детским играм и шалостям. Он дичился своих сверстников, держался от них особняком, насмешки их встречал или молчанием, или грубой бранью, на слишком назойливые приставания отвечал метким ударом кулака:
– Ишь, какой злющий! – говорили мальчики, испытавши силу этого кулака: – настоящий медведь или волк!
Один из гимназистов услышал раз, как Сергей Степанович, встретив Илюшу на улице, назвал его в шутку «волчонком». Он пересказал про это прозвище другим, и все нашли, что оно как нельзя больше подходит к угрюмому Илюше, и с тех пор его редко кто звал в гимназии по фамилии: всем казалось, что кличка «волчонок» вполне к нему подходит.
Кроме своей угрюмости и необщительности, Илюша не нравился товарищам и скупостью. Они возмущались, видя с какой аккуратностью укладывает он в ранец свои книги и тетради, какими крошечными карандашиками он умудряется писать, как, ссудив кому-нибудь свой перочинный нож, он зорко следит за ним и при первом удобном случае настоятельно требует его назад. Все это казалось им отвратительной скаредностью; они не подозревали, что Илюша дорожит своими вещами вовсе не из скупости, а потому, что считает вещи эти принадлежащими Петру Степановичу, потому что всякий раз долго мучится и колеблется, прежде чем решится попросить несколько копеек на новый карандаш или грифель.
Не встретив дружеского участия со стороны товарищей, Илюша и сам не полюбил их. Отчуждение его стало еще сильнее после того, как кто-то из мальчиков узнал, что он исполняет у Петра Степановича обязанность слуги.
– Знаете, господа, Волчонок служит в лакеях? Волчонок чистит сапоги! Волчонок метет комнаты! У Волчонка есть барин! – передавали друг другу мальчики.
Нашлось несколько барчуков, которым показалось унизительным учиться вместе с лакеем, и они собирались даже просить директора об исключении Павлова из гимназии. К счастью, в классе было человека два-три поразвитее, которые пристыдили барчат и заставили их отказаться от этого глупого и злого намерения. Они, скрепя сердце, согласились терпеть Илюшу в своей среде, но относились к нему постоянно с нескрываемым презрением и брезгливостью. Остальные мальчики, хоть меньше гордились своим благородством, но все-таки не пропускали удобного случая подсмеяться над нелюбимым товарищем, уязвить его чем-нибудь. Если Илюша лучше или быстрее других решал арифметическую задачу, они говорили:
– Еще бы, Волчонку не уметь считать! Барин часто посылает его в лавочку и бьет, если он принесет сдачи меньше, чем нужно.
Если он не совсем твердо отвечал урок или получал дурную отметку, кто-нибудь непременно замечал:
– Что, Волчонок, плохо? Господам служил и про книжку забыл?
– Эй, «человек»! – кричали ему шалуны, – вычисти мне сапоги!
– Принеси мне стакан воды!
Сначала Илюша отвечал на все эти насмешки бранью или побоями, но, видя, что это не помогает, перестал обращать на них внимание; только в сердце его накоплялось недоброе чувство против насмешников.
«Ну, что же из того, что я лакей, а они господа? – думал он часто про себя. – Они не хотят со мной знаться, да мне и самому неохота с ними связываться!» И он все больше и больше сторонился товарищей, не участвовал в их играх, не вступал с ними в разговоры, и все рекреационное время твердил уроки. Способности у него были хорошие и он занимался так усердно, так прилежно, что перешел во второй класс одним из первых учеников, и при переходе в третий опять надеялся подучить похвальный лист. Он достиг своей цели, желание его исполнилось: он мог учиться, мог читать, сколько хотел, – Петр Степанович не скупясь, снабжал его новыми книгами, – но он все-таки не чувствовал себя счастливым: полное одиночество тяготило его; ни от кого не видел он ласки, сочувствия, все относились к нему или холодно, или враждебно. И среди шумной толпы товарищей, и в своей маленькой кухне, он всегда и везде был один, – один со своими книгами. Никто не расспрашивал у него, о чем он думает, когда, окончив приготовление уроков, он по целым часам сидел, опустив голову на руки, никто не интересовался узнавать его чувства. Мудрено ли, что он становился все более скрытным и угрюмым…
Глава X
История с учителем математики была очень не по сердцу Илюше. С одной стороны, ему неприятно было, что он не мог обидеться, как следовало, по мнению гимназистов, с другой – он боялся, как бы дело не кончилось бедой.
«Пожалуй, директор рассердится, да исключит из гимназии, или Курбатов наставит единиц и не перейдешь в третий класс? – думалось ему. – Что со мной тогда будет? Захочет ли Петр Степанович лишний год платить за меня, да если и захочет, так мне самому стыдно будет просить его».
Придя на другой день в гимназию, он попробовал переговорить с двумя-тремя воспитанниками, которые казались ему посмирнее, и убедить их отказаться от вчерашнего замысла. Но его перебили на первых же словах, объявив, что он трус, что дело решено и толковать о нем не стоит. Он, по обыкновению, замолчал и, нахмурясь, отошел прочь.
В субботу весь класс был в волнении. Урок арифметики приходился вторым. Первого урока почти никто не слушал, и учителю географии пришлось немало наставить единиц и двоек. Когда он вышел, зачинщики еще раз напомнили прочим, что следует свистать как можно громче и начинать всем вместе, как только учитель взойдет на кафедру; затем в классе водворилась необыкновенная тишина. Все сидели на своих местах, все готовились и в глубине души волновались. Но вот, дверь отворилась, в класс вошел учитель математики, а с ним вместе директор. Что это значит? Этого дети никак не ожидали! Они с недоумением перешептывались и переглядывались; темноглазый мальчик, который должен был подать знак к общему свисту, скромно опустил глаза в книгу; никто не осмелился шуметь при директоре. А директор преспокойно уселся на стуле и просидел так весь класс, зорко следя за всяким движением воспитанников, окончательно присмиревших под его строгим проницательным взглядом. Когда урок кончился и учитель вышел из комнаты, директор взошел на кафедру и обратился с небольшой речью к воспитанникам.
– Я очень рад, – сказал он: – что вы вовремя одумались и отказались от затеянной вами шалости; особенно рад потому, что шалость эта глубоко огорчила бы нашего почтенного Максима Ивановича. Огорчить человека, который всей душой предан вам, который тратит силы и здоровье на дело вашего образования, было бы слишком неблагодарно; огорчать же человека больного, для которого всякая неприятность может иметь пагубные последствия, было бы просто непростительной жестокостью. Повторяю, очень рад, что вы сами, без чужой помощи поняли это. Некоторая раздражительность, замеченная вами у Максима Ивановича, не должна оскорблять вас: это просто следствие его болезни. Я надеюсь, что во время каникул он отдохнет, поправится, и тогда ничто не будет мешать вам вполне оценить этого замечательно искусного учителя и замечательно хорошего человека.
Все слушали директора среди полнейшей тишины, но когда он кончил и вышел из комнаты, долго сдерживаемые чувства класса выразились целым потоком восклицаний, шумных криков, всевозможных звуков.
– Что это значит? Как директор мог узнать? Кто ему сказал? Кто доносчик? – послышалось в разных концах комнаты, когда общий гул настолько улегся, что можно было что-нибудь расслышать.
За этими вопросами опять поднялся шум и гам, и только приход строгого учителя латинского языка – грозы всего класса – заставил несколько успокоиться взволновавшихся мальчиков.
Волнение это, затихшее на время, возобновилось, едва учитель оставил класс. В рекреационное время забыты были все игры, все обычные разговоры; один неотступный вопрос занимал весь класс: откуда директор мог узнать о заговоре против Курбатова? Все единогласно находили, что это дело какого-нибудь доносчика, и непременно доносчика-гимназиста. Никому и в голову не приходило, что заговорщики толковали о своих замыслах громко, на улице, где в эту минуту легко мог проходить кто-нибудь из знакомых директора или учителей. На самом деле, так и было: гувернантка детей директора, гуляя со своими двумя маленькими воспитанницами, случайно услышала разговор гимназистов и поспешила предостеречь директора о затеваемых гимназистами беспорядках. Мальчики, конечно, и не подозревали этого: они не обратили никакого внимания на какую-то барыню с двумя детьми, с трудом протискавшуюся сквозь их толпу, и теперь искали изменника в своей среде.
– Не Ляпин ли? – заметил кто-то. – Он сегодня не пришел, а вчера зачем-то ходил к директору?!
– Вот выдумал! – вскричал Харитонов, считавшийся другом Ляпина. – Станет Ляпин доносить! Я знаю, зачем он был вчера у директора: сегодня его именины, и он ходил отпрашиваться.
– Так не Комаровский ли? Он любит юлить перед начальством…
У Комаровского тоже нашлись защитники.
– А я знаю, кто донес, – проговорил Тюрин: – только не скажу.
Тюрина окружили; его просили, уговаривали, ему грозили, и он недолго сохранил свою тайну. Через несколько минуть во всех углах класса толковали, что доносчик открыт, что это Павлов, непременно Павлов. Доказательства были налицо: Павлов не обиделся на Курбатова, Павлов многим говорил, что свистать не следует, Павлов нисколько не удивился приходу директора, а теперь совсем не беспокоится о том, откуда директор все узнал, и, наконец, Павлов вообще дрянь. Это последнее доказательство казалось мальчикам особенно убедительным.
В защиту нелюбимого товарища не поднялось ни одного голоса; все наперерыв высказывали свое негодование против него.
– Этого нельзя так оставить, – толковали мальчики. – Его надобно проучить, хорошенько проучить…
– Я давно говорил, что этого мальчишку следовало исключить из гимназии, – заметил один гимназист-барич. – Чего же хорошего можно ждать от лакея?!
– Нет, это ему так не пройдет! – кипятился силач Щукин, яростно сжимая кулаки. – Мы с ним разделаемся.
– Надо так отдуть его, чтобы он на всю жизнь отвык от этаких проделок, – заметил Харитонов.
Ему не возражали; несколько голосов поддержало его; решено было, как только кончатся уроки, не выходя из класса проучить Павлова. За «проучку» взялось несколько человек, опытных в этом деле; остальные должны были сторожить, чтобы не вошел воспитатель, и объяснить Павлову, что весь класс недоволен им, считает поступок его низостью.
Илюша и не подозревал, что волнует его товарищей. Неудача заговора против Курбатова так обрадовала его, что он и не думал о причинах ее. В рекреационное время он, по обыкновению, держался вдали от товарищей и, слыша их шумные толки, он подумал: «Ишь галдят!» – и стал прилежно повторять трудный немецкий урок.
В классе в Илюшу попало несколько катков бумаги, пущенных ловкой рукой с задней скамейки; до слуха его несколько раз долетали слова: «шпион, фискал, доносчик!» но он не обращал на них большого внимания, не знал даже наверное, к нему ли именно относятся они. Но вот последний учитель вышел из класса; Илюша, собрав свои книги, уже направлялся к дверям, как вдруг Щукин подбежал к нему и ударил его по лицу, приговаривая: «вот тебе, доносчик».
В первую секунду Илюша совсем опешил, но затем, быстро оправившись, он намеревался, что называется, дать сдачи обидчику, как вдруг на него посыпались удары справа, слева, сзади, и при этом беспрестанно повторялись восклицания:
– Не доноси на товарищей! Не фискаль! Шпион! Сыщик!
Мы не станем описывать подробностей возмутительного побоища, какие, к стыду учащихся, до сих пор повторяются в некоторых учебных заведениях. Когда оно прекратилось, Илюша лежал на полу избитый, окровавленный. Он почти не мог стоять на ногах, еле сознавал, где находится и что с ним.
Противники его струсили: «проучка» зашла слишком далеко и могла навлечь на них строгое наказание, если бы воспитатель заметил ее. Они сбегали за водой, наскоро умыли Илюшу, накинули на него пальто и кэпи и всей толпой, поддерживая и закрывая его от глаз старших, вышли из гимназии. На улице Илюша настолько оправился, что мог идти без посторонней помощи. Тогда мальчики разбежались от него, повторяя на прощанье:
– Это тебе за донос! Другой раз не смей фискалить! Коли опять донесешь, смотри – еще хуже будет!
Илюша остался один в довольно пустынном переулке. Все тело его болело, в ушах шумело, в голове было как-то смутно. Он присел на тумбу, чтобы немного отдохнуть и собраться с мыслями.
«За что? Что я им сделал?» – вертелся неотвязный вопрос в уме его. И, не находя ответа на этот вопрос, он тяжелыми, неровными шагами поплелся домой. Петр и Сергей Степановичи были дома, когда Илюша вошел в комнату. Первый увидел его Сергей Степанович.
– Илья, что это с тобой! – вскричал он, – кто это тебя так славно отделал? Брат, Петр, посмотри-ка, полюбуйся на этого молодца! Ха, ха, ха!
Он схватил мальчика за руку и потащил его к брату, продолжая громко смеяться. Лицо Илюши было, действительно, странно: нос его сильно раздулся, один глаз совсем запух, под ним красовался большой синяк, а на лбу возвышались две огромные шишки. Платье его было изорвано и запачкано кровью. Петру Степановичу довольно было одного взгляда на мальчика, чтобы понять, что тому не до шуток.
– Перестань, Сергей, – сухо остановил он брата и затем, обращаясь к Илюше, сказал более мягким голосом:
– Ты после расскажешь нам, как это с тобой случилось, а теперь разденься и ляг: надо полечить твои увечья.
Илюша еле стоял на ногах; он дрожал как в лихорадке и чувствовал слабость во всем теле. Совет Петра Степановича был как нельзя более кстати, и он поспешил исполнить его. Петр Степанович дал ему принять успокоительного лекарства, осмотрел все его увечья и привязал ему холодные компрессы к особенно сильно зашибленным местам.
Мало-помалу, Илюша успокоился, боль его утихла, силы восстановились; он чувствовал себя настолько здоровым, что мог встать с постели. Но теперь еще сильнее в душе его проснулось горькое, едкое чувство от причиненной ему несправедливости и негодование против обидчиков. Вспомнив все, что говорили товарищи, когда били его, он понял, в чем его заподозрили, за что с ним поступили так жестоко. Но с какой же стати подозревали они именно его? Он уже почти два года учится в гимназии, и за все это время никто не видел от него никакого бесчестного поступка, а ведь доносить на товарищей бесчестно. Почему же они думали, что он на это способен? «Потому, что они ненавидят, они презирают меня, – с болью в сердце думал мальчик: – они не считают меня равным себе, своим товарищем… Я не могу больше оставаться с ними, не могу и не хочу! Не стану больше ходить в гимназию, не буду больше учиться, не надо! Останусь на всю жизнь лакеем, – ну, и пусть, все равно»!
Вечером Петр Степанович еще раз осмотрел ушибы мальчика и, видя, что ему лучше, спросил:
– С кем же это ты так подрался, Илюша, скажи, пожалуйста?
– Я не дрался, а меня били, – угрюмо отвечал мальчик. – Я не могу больше учиться в гимназии, – с жаром прибавил он, – все гимназисты злые, несправедливые, я не могу их видеть!
– Э, полно, – успокаивал его Петр Степанович: – все мальчики постоянно дерутся и колотят друг друга, с этим ничего не поделаешь! Ты, верно, очень насолил им, что они так жестоко напали на тебя? Это, конечно, неприятно, но из-за этого нечего и думать бросать ученье. Спи теперь спокойно; как выспишься, так наверно согласишься со мной.
Сон не произвел на Илюшу того действия, какого ожидал Петр Степанович. Он остался при своем намерении не ходить больше в гимназию, и в понедельник, действительно, не пошел.
– Что это значит, Илюша, отчего ты дома? – спросил Петр Степанович, видя, что после утреннего чая он принимается за чистку подсвечников и не думает надевать гимназический мундир.
– Я ведь сказал вам, что не буду больше ходить в гимназию, – проговорил мальчик.
– Как? Так это ты в самом деле затеял? – вскричал Петр Степанович. – Нет, Илья, этого я не допущу! Ты захотел лучше учиться в гимназии, чем в мастерской, и я этому не противоречил, так как у тебя есть способность к умственному труду. Но бросить гимназию – я тебе не позволю. Я прямо приказываю тебе: одевайся скорее и отправляйся. Помни, что для тебя главное – учиться, и учиться, как можно лучше, а остальное все пустяки…
Илюша опустил голову. Петр Степанович и не подумал разобрать, из-за чего товарищи невзлюбили мальчика, из-за чего так жестоко обошлись с ним; Илюша, не привыкший к откровенности, не чувствовал потребности рассказать ему все подробно, но не смел ослушаться его прямого приказания. Тяжело было ему это послушание, тяжело было ему вернуться в гимназию, опять сидеть в одной комнате, за одним столом с теми, кто так жестоко, так несправедливо оскорбил его! У него не являлось ни малейшего желания помириться с товарищами, объясниться с ними откровенно, и хоть побраниться, да зато потом сойтись поближе. Ему и в голову не приходило, что будь сам он общительнее с ними, дружелюбнее – и они будут лучше относиться к нему.
«Они меня не любят, презирают, – думал он, медленными шагами направляясь к гимназии после строгого приказания Петра Степановича. – Пусть себе. Мстить я им не могу и не буду, но я просто совсем не стану знаться ни с кем из них! Он говорит, что я должен „главное – учиться“; ну, хорошо, я буду учиться, а на них и внимания не стану обращать!»
С такими недружелюбными чувствами пришел Илюша в гимназию. Он и не заметил, что многие из его товарищей успели одуматься и поняли, как были неправы, осудив его без всяких доказательств. Им стыдно было смотреть на его синяки и ссадины.
– Если бы он был вправду фискал, он и теперь нажаловался бы, а он – ничего: сказал воспитателю, что ушибся, – толковали между собой некоторые из них и старались загладить вину свою перед ним, заговаривали с ним, приглашали его играть с собой.
Илюша не замечал этих попыток сблизиться с ним и твердо выдерживал свое намерение – сторониться товарищей. Учился он прилежно, отлично выдержал переходный экзамен из второго класса в третий, на каникулах много читал и в третьем классе стал сразу первым учеником. Это, однако, не примирило его с гимназией, он продолжал посещать ее с отвращением, только исполняя приказание Петра Степановича.







