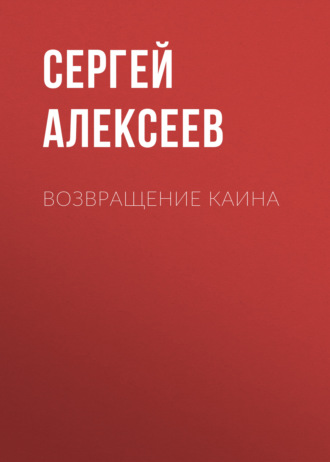
Сергей Алексеев
Возвращение Каина
Возбужденный от таких мыслей, Алеша побродил по пустому коридору, потрогал, потолкал руками стены – отчего-то ему чудилось, что коли он невидимый для всех, то может пройти сквозь стену. В первые детдомовские ночи ему снился один и тот же сон: будто его хватают, как партизана или разведчика, и бросают в тюрьму, в камеру-одиночку. Стены в камере сырые, шершавые – железобетонный мешок, но одна стена выложена из блоков зеленого стекла и слегка светится. Будто Алеша мечется в камере и не может найти дверь – ее просто нет, и неизвестно, как его туда ввели. В миг нестерпимого страха вдруг стеклянная стена начинала мерцать белым светом, и сквозь нее, как сквозь дым, медленно проникала рука мамы – он узнавал ее по ладони с желтым колечком. Он схватывал эту руку и тянул к себе; и тогда мама проходила сквозь стекло, но только наполовину – рука, плечи и голова. И вдруг становилась неестественно высокой, гигантской, отчего и потолок вздымался вверх, и стеклянная стена вырастала до небес. Алеша слегка пугался: люди не бывают такими огромными!.. Однако мама выводила его из каменного мешка, причем он легко и незаметно проходил сквозь стекло за материнской рукой. Оказавшись же на свободе, он мгновенно оставался один…
Стены в административном блоке были крепкими, хотя такими же серыми и шершавыми. И лестничные клетки были забраны стеклянными кубиками…
Он снова сел на мусорный бачок и, грызя ногти, думал: «Буду сидеть до конца! Буду сидеть, и все. Что они со мной сделают?» После обеда из-за этих ногтей его заметила медсестра. Она пообедала и вышла из комнаты веселая, но тут натолкнулась взглядом на мальчишку.
– Ты почему грызешь ногти? У тебя там грязь, микробы, а ты их в рот тащишь. Немедленно прекрати грызть ногти!
А Алеша назло ей сидел и грыз и сплевывал откушенные частицы на пол.
– Мальчик! Ты почему не слушаешься? – изумилась медсестра, и на ее изумление выглянула секретарша:
– Что такое?
– Да вот, сидит мальчик и грызет ногти! – возмутилась медсестра. – Дай ему ножницы. Пусть обстрижет на наших глазах. И чтоб больше никогда в жизни не грыз!
Ему принесли ножницы и положили на колени.
– Стриги!
Алеша понял, что не нужно прикасаться к этим ножницам, только грызть и грызть! И будет спасение! И он стал грызть еще старательнее, так что из-под ногтей пошла кровь.
– Смотрите! Что он делает?! – закричала медсестра. – Да он просто ненормальный! Как твоя фамилия, мальчик?!
Тут на шум выглянул сам директор. Он тоже обедал, был веселым и о чем-то только что рассказывал.
– В чем дело, товарищи?
– Ногти сидит и грызет! – возмущенно доложила сестра. – До крови разгрыз!
– Поселите нас вместе, – не выпуская ногтей изо рта, сказал Алеша. – Мы хотим жить в одном блоке.
Директор грозно мотнул головой и сказал секретарше:
– Дела Ерашовых ко мне на стол!
И пропал за дверью вместе с секретаршей и медсестрой. Грызть Алеше уже было нечего, но он грыз. Минут через пять его пригласили к директору, но уже вежливо, как больного. Директор был сердит, но не на Алешу, а на своего заместителя – женщину косоглазую, с огненными волосами.
– Я сколько раз буду повторять? – строжился он. – Братьев и сестер не разлучать по возрастному признаку. А вы опять разлучили. Немедленно переведите в один блок. Дети не должны страдать!
Алеша ушам своим не верил: утром еще сидел и убеждал, что вместе жить невозможно, и суворовским училищем манил. Неужели на него так подействовали ногти, съеденные до мяса? Или разобрался наконец, что они – братья и сестры?..
И тут Алеша ощутил внезапное и никогда не испытанное желание – подбежать к директору и поцеловать ему руку. Он даже сделал движение к нему, но в следующее мгновение ужаснулся и страшно устыдился своего желания. Оно было чужим, мерзким и отвратительным, как плевок на асфальте. Алеше стало дурно, от тошноты искривил рот. Он бросился прочь из административного блока и на улице, схватив снег, стал тереть лицо, руки, словно хотел отмыть липкую, скользкую гадливость.
Олега в тот же день переселили в блок к воспитанникам школьного возраста и коечку поставили рядом с койкой старшего брата, но Алеше долго еще было мерзко и безрадостно. Перед глазами стояла короткопалая, рыхлая рука директора… И он возненавидел самого директора и много раз клялся, что никогда больше не станет ходить и просить что-либо. И свято верил своим детским клятвам. Впрочем, и Олегу в «семейном кругу» лучше не стало. Теперь он тосковал от одиночества, когда все убегали в школу, бродил по пустому блоку или сидел возле окошка, глядя на улицу. Чтобы он не забрел куда-нибудь, его просто запирали на ключ. Ко всему прочему, стоило Алеше и Васе на миг потерять его из виду, кто-нибудь из мальчишек немедленно давал Олегу пинка или ставил «щелбан» – щелкал по лбу. То было какое-то навязчивое желание поддать меньшему, показать свою жестокость и безбоязненность. Каждый раз братья доставали обидчика, хотя Олег не жаловался и терпеливо сносил обиды. Он словно хотел показать, что вынесет любую издевку и ни одной слезы не уронит. Иногда на шестилетнего Олега налетали сразу два-три подростка, клевали его со всех сторон, куражились, дразнили – он же лишь удивленно таращил глаза и даже не вздрагивал от затрещин. Голова и тело становились резиновыми и не пропускали боли. Алеша узнавал об издевательствах по красному лбу брата, и в блоке возникала стремительная драка. Рослых братьев Ерашовых побаивались, тем более когда к ним подключалась еще и сестра Вера – кошка в драках!
И не из этой ли боязни мальчишки задирали меньшего, Олега?
Однажды кто-то ткнул Олегу пальцем в глаз, и глаз покраснел, загноился, после чего братишку увели в больничный блок. И как назло, Алеша с Васей дежурили на пищеблоке и ничего не могли знать. Вечером прибежала перепуганная Вера, сообщила, и тогда старший Ерашов взял на кухне хлеборезный нож, пришел в спальню и сказал:
– Если кто еще притронется к моему брату – зарежу.
Сказано было негромко, но с незнакомой внутренней остервенелостью: в ту минуту он действительно бы зарезал обидчика. Подростки, как и любой молодняк, больше слышали интонации, чем смысл слов, реагировали на явную угрозу и понимали силу: с того момента Олега никто не трогал. Взрослеющие мальчишки наконец разглядели в нем малыша, и возникло нечто напоминающее опеку. Но Олег уже был словно отравлен издевательствами и плохо воспринимал добро. Ему совали конфету – он швырял ее на пол, а подарки и гостинцы принимал лишь от братьев и сестры, да и то без особой радости. Детство порвалось в нем, испортилось слишком рано, как портится падалица – зеленые яблоки, сбитые ветром. Олег будто не жил, а переживал детство как длинный холодный дождь.
Вернувшись из больничного блока, Олег в первую же ночь забрался в постель к Алеше, прижался к нему – все-таки истосковался! – и неожиданно прошептал:
– Узнать бы, как там наш Кирюшка поживает…
Этот теплый и горестный шепоток застрял в ухе, словно остроугольный осколок.
– Узнаем! Я поеду к нему, и мы узнаем! – тут же решил Алеша.
Правда, он побоялся, что Олег начнет проситься с ним, однако брат все понимал: к Кириллу можно было поехать только «убегом». И не просился. Он лишь достал из потайного места никелированный шарик от кровати и сунул в руку Алеше:
– Отнесешь Кирюшке, в подарок. У него же скоро день рождения.
Эти шарики считались большой ценностью. Мальчишки постарше воровали спички, начиняли шарики селитрой и взрывали, поэтому ни на одной кровати их не было.
– А вдруг Кирюшка возьмет его в рот и проглотит? – засомневался Алеша. – Он же еще маленький…
– Какой же он маленький, – не согласился Олег. – Скоро два года…
– Но все равно…
Олег подумал и нашел новый подарок – желтую, обклеенную костью клавишу от рояля. Разбитый черный рояль много лет лежал на черном дворе и постепенно врастал в землю. Клавиша была вкусно-гладкая и приятная для руки.
– Шарик возьми себе, – разрешил Олег. – А клавишу отнеси. Только это не простая клавиша, это волшебная палочка, но ты никому не говори! По секрету… Только никому-никому!.. У палочки такая сила! Я слеплю снежок, прикоснусь к нему, и он превращается в мороженое…
Ранней весной, накануне дня рождения Кирюши, Алеша впервые пошел в «убег». Бежали из детдома часто, группами и в одиночку, зимой и летом, и в основном, чтобы хлебнуть воли и посмотреть на мир: так ли живут все остальные люди на земле или не так? Беглецов ловили, препровождали назад, но бывало, некоторые возвращались сами. И потом рассказывали, что жизнь везде одинаковая и полная свобода только в лесу, где нет людей. Старший Ерашов вызывал доверие у воспитателей, и потому никто не заподозрил, что он собирается на волю. А ему давно копили деньги в дорогу, в том числе и девочки, с которыми жила Вера. Алеша научил сестру, что говорить, когда хватятся, и под утро, когда дежурная по блоку спала, с помощью Васи выставил стекло в туалете и выбрался во двор. Там же давно была заготовлена доска, чтобы махнуть через забор в безопасном месте. Так что через несколько минут Алеша уже летел к шоссе на Ленинград.
Машины еще не ходили, и он отправился пешком. По дороге он сочинял и выучивал историю своей жизни, если кто спросит. Он вбил себе в голову, что ему уже пятнадцать лет и он работает учеником каменщика на стройке, а живет в пригороде. И придумал себе родителей: отца-прораба и мать-домохозяйку. Это на случай, если кто подсадит на попутку и станет расспрашивать.
В этой воображаемой жизни все складывалось благополучно и счастливо…
Часа через два его догнал грузовик. В кабине было тепло и густо накурено, средних лет водитель оглядел попутчика и ухмыльнулся:
– Что, парень, в бега?
Все оборвалось в душе. Алеша отвернулся, размышляя, под каким предлогом выйти из машины и убежать. Но шофер похлопал его по затылку и успокоил:
– Ладно, не бойся… Я тоже в бегах бывал!.. Только ты больно уж рано дернул, холодно еще. Бежать хорошо в мае… Что, худо совсем?
– Не худо, – признался Алеша. – Я к младшему брату поехал, к Кирюше. Он у нас в Доме ребенка.
– Будет врать-то! – засмеялся бывалый беглец. – Скажи, на волю захотелось!.. Побегай, чего там. Да только не воруй. Станешь воровать – труба. А изголодаешься – шуруй назад. Примут, куда денутся?
– Вы тоже… из детдома убегали? – осторожно спросил Алеша.
– Да нет, парень, из другого дома… – проговорил водитель и замолчал.
Алеша убедился, что никогда не следует говорить правду первым встречным, ибо в правду не верят, но и врать надо учиться. Легенда о стройке и об отце-прорабе показалась ему глупой, несуразной, как если бы он рассказал, что отец его был контрадмиралом и погиб, выполняя свой долг по защите Отечества. Однако было радостно, что шофер попался «свой» и не собирался сдавать беглеца в руки воспитателей или в спецприемник для детей.
Через сто семьдесят километров показался Ленинград и развеял дремотное дорожное состояние. Возле кольцевой развилки шофер остановил машину и кивнул в сторону:
– Мне налево, брат. А ты дуй прямо!
– Спасибо, – сказал Алеша, отворачиваясь.
Шофер порыскал по карманам, достал мелочи семьдесят четыре копейки и подал Алеше:
– Держи! Погуляй, покути на воле… На воле, брат, все вкуснее. Да недолго тебе гулять, первый же мент возьмет. Когда в следующий убег рванешь – одежонку смени и волосы отпусти. Тебя же за версту видно – невольник… Ну, деньги-то бери!
До конечной станции метро Алеша добирался пешком. И в самом деле, за версту в нем можно было признать детдомовского: стриженный наголо, большеватая кепка-восьмиклинка и, наоборот, маловатое пальто. Одежду выдавали хоть и новую, но давно пошитую, пролежавшую на каких-то складах лет двадцать и так спрессованную, что складки не разглаживались ни утюгом, ни от долгой носки. И складской запах не выветривался – напротив, проникал в кожу и тело. В детдоме дух этот не слышался, но на воле, среди других запахов, казался резким и выдавал с головой.
Потом он нырнул в метро, где народу было много, и, как ему казалось, под землей все становятся равны, словно в детдоме. Алеша удержался от соблазна покататься на эскалаторах и отправился на поиски роддома, при котором и был Дом ребенка. Обходя стороной милиционеров и подозрительных прохожих, он сначала заглянул в магазин, чтобы купить подарок на собранные деньги, однако в детских товарах глаз у продавщиц был тренированным, и мгновенно послышалось:
– Парень, иди отсюда! Иди-иди!
Алеша даже не успел присмотреть подарок, чтобы попросить кого-нибудь купить его. Пришлось спешно уйти в тамбур и оттуда, сквозь стекло, выбрать игрушку. Ему понравился большой зеленый танк с лампочкой, но беда, не видно цены, даже если сложить ладонь трубочкой. И все-таки он сосчитал деньги – двенадцать рублей семнадцать копеек, приготовил их, как пропуск, и вошел в магазин. Большой танк стоил аж тридцать один рубль и был управляемый с помощью пульта и провода. Да рядом оказался еще один, неуправляемый и без электромоторчика, зато стреляющий пластмассовыми болванками. И стоил подходяще!
– Мне танк, пожалуйста, – вежливо сказал Алеша и сунул деньги.
– Деньги в кассу, – бросила продавщица и достала коробку с танком. Великое дело – деньги! И когда они есть, можно прийти в магазин в каком угодно виде и никто не прогонит. Алеша выбил чек, взял коробку и помчался искать брата.
Дом ребенка напоминал обыкновенные детские ясли с игровой площадкой во дворе. Только на улице было сыро, и детей не выпускали. Алеша махнул через забор, быстро нашел вход и подкараулил тетку в белом халате и ватнике, наброшенном на плечи. Она выслушала совершенно правдивый рассказ, но подозрительно спросила:
– Ты не обманываешь?
– Вот, подарок. – Алеша показал коробку. – Можете позвонить в наш детдом и спросить.
Тетка впустила его в дом и велела ждать в передней. Где-то за стенами слышались детский смех и плач, топот ножек и дребезг игрушек. Все это напоминало детский дом, только в каком-то уменьшенном, неразвитом виде – низкие вешалки, стульчики и горшки… В тепле Алешу разморило и потянуло в сон – к тому же ночь с Васей не спали, выжидая время побега. Сквозь дрему он видел, как в переднюю входили женщины в белых халатах, молча смотрели на него и уходили. Он знал, что из Дома ребенка наверняка уже позвонили в детдом, сообщили о беглеце, но ничуть не волновался: расчет был верным – пока оттуда пришлют воспитателя, пока он доберется до Ленинграда, Алеша успеет повидаться с Кирюшей.
Наконец Алешу раздели и повели на третий этаж. Там в какой-то приемной его накормили – время было обеденное, и Алеша решил, что сейчас ему приведут брата. Однако его проводили в кабинет с табличкой «Главврач». Седая строгая женщина в белом колпаке посадила Алешу к своему столу, а сама смотрела в какие-то бумаги и щурилась.
– Когда мне покажете Кирюшу? – спросил Алеша, щупая в кармане клавишу – волшебную палочку. – Пока я не увижу его, никуда не поеду.
Главврач вздохнула и прищурилась на Алешу.
– Ты уже совсем большой мальчик, – сказала она. – Совсем взрослый и умный.
– Мне пятнадцать лет, – зачем-то соврал Алеша, хотя врать здесь не имело смысла – в бумагах все написано…
– Тебе только тринадцатый, – мягко поправила главврач. – Но выглядишь ты действительно старше…
– Покажите мне брата, – перебил Алеша, глядя исподлобья.
И тут наступила странная, пугающая пауза. Женщина ушла к окну и, откинув штору, смотрела на улицу. Алеша вскочил – коробка свалилась на пол.
– Где Кирюша?!
– Ну-ну, успокойся, – миролюбиво сказала главврач. – Здесь твой Кирюша, в игровой комнате. Жив и здоров… Ты взрослый парень и уже многое должен понимать… Мне известно, что случилось с вашей семьей. Вы, четверо, уже достаточно большие, а Кирюша очень маленький. И вы все хотите, чтобы ему было хорошо, правда?
– Хотим, – вымолвил Алеша и стал грызть ногти.
– А как бы в детдоме хорошо ни было, все равно Кирюше в семье было бы лучше, правильно? – Она увидела, что он грызет ногти, но ничего не сказала. – Понимаешь, Алексей, твой брат совершенно не помнит родителей. И вас он тоже не помнит. Что поделать, такая жизнь. Дети, особенно младенцы, быстро привыкают к сиротству… И ты, как старший, должен это понимать.
– Я понимаю, – одними губами сказал Алеша, готовясь к чему-то страшному.
– Так вот, Алеша… Есть люди, очень хорошие люди. Муж и жена. У них нет детей. И они хотят усыновить вашего Кирюшу, понимаешь? Он станет их сыном, и ему будет очень хорошо с ними. Мы его специально к этому подготовим… Подумай сам, Алексей…
– Нет! – крикнул Алеша. – Не дам!
– Погоди, мальчик, ну что ты? – по-матерински заговорила главврач. – Подумай, хорошо ли в детдоме живется? А скоро и Кирюшу туда переведут. Ты же не хочешь, чтобы ему было так же плохо и тяжело? Не хочешь?.. А у этих людей Кирюше будет лучше. Он станет жить дома, в семье, понимаешь?
– Я же… вырасту! – почти закричал Алеша. – Я скоро вырасту!
– Конечно, ты вырастешь, – согласилась она. – Но не так скоро… К тому же, кроме Кирюши, у тебя есть сестра и еще два брата…
Вдруг Алеша почувствовал, как душа его сжалась, охваченная судорогой, но вместе с тем из нее вырвался незнакомый и неуправляемый голос. Алеша закричал чужими словами, и тихий этот крик чем-то напоминал тот, когда он пришел мстить с хлеборезным ножом за обиженного брата.
– Я вырасту! Я вырасту и всех соберу! Всех! Никому не отдам! Никого не отдам! Вырасту! Вырасту!!
В кабинет главврача сбегались женщины, но главврач махала им рукой – идите, идите отсюда!
…Потом Алешу отвели в небольшой спортивный зал на втором этаже и велели подождать. Алеша почти совсем успокоился, и лишь жжение в груди осталось, как во рту после перца. Он рассматривал шведские лесенки, низкие перекладины, канаты и качели – все еще было маленьким, детским, но все уже насквозь пропиталось запахом казенного помещения, казенной одеждой и обувью – вездесущим сиротским запахом…
Нянечка открыла дверь почти неслышно и впустила двухлетнего мальчика в белой рубашке и белых колготках. Он был совершенно чужой, этот мальчик, и Алеша в первый миг растерялся – это что? Кирюша? Мой брат?.. Но нянечка склонилась к мальчику и сказала:
– Кирюша, вот это – твой брат Алеша. Иди к нему.
Кирюша сделал шажок и неожиданно звонко и отчего-то невероятно знакомо повторил:
– Алеша!
И словно подтолкнул Алешу с места.
Они побежали навстречу друг другу. Кирюша доверчиво вцепился в брата, положил голову на плечо и зашептал:
– Алеша. Братик Алеша…
Старая нянечка вдруг заплакала и опустилась на низенькую скамейку.
– Вот она, кровь родная… Надо же, надо же… А говорят… Вот она, кровь-то…
И Алеша едва сдерживал слезы…
3
Кирилл переночевал в своих комнатах всего один раз и на второй день явился с раскладушкой и постелью к Аристарху Павловичу.
– Пусти на квартиру, Палыч? – дурачась, попросил он. – Я там от тоски повешусь. Бабушка Полина своими мемуарами достала! Уже и телевизор перестала включать.
Места в бывшей гостиной было достаточно и не жалко, однако, опасаясь ревности соседки, Аристарх Павлович, крадучись от Кирилла, сходил к ней, чтобы уладить все недоразумения. Бабушка Полина была сердита.
– Переманил внука, – ворчливо заметила она. – А я ведь ждала его. Из-за них всех, можно сказать, и на белом свете задержалась, не умерла. Чем заманил-то? Жеребенком?
Аристарх Павлович вдруг понял, что заманил Кирилла тем, что не мог говорить. Похоже, младшего Ерашова тянуло к тишине, раздумьям и молчанию, но бабушка Полина, намолчавшись за тридцать лет одинокого лежания, теперь наверстывала упущенное, и откровенно сказать, этот фонтан выдерживала лишь Надежда Александровна. Сама немногословная, она избрала тактику либо отвлекать бабушку телевизором, либо слушать ее и никак не реагировать, занимаясь домашними делами.
– Пусть ночует у тебя, – разрешила бабушка Полина, польщенная тем, что Аристарх Павлович пришел к ней посоветоваться. – Но завтрак, обед и ужин только дома. Не корми Кирюшу, нечего. Пусть привыкает к родному гнезду.
И ее приживалка, Надежда Александровна, тоже застрожилась:
– Приехал человек в родной дом, а живет у чужого дяди… Для кого я готовлю – от плиты не отхожу?
– Мальчику необходимо мужское общество, – неожиданно заступилась бабушка Полина, умеющая быть снисходительной. – Он офицер. А мы с тобой – увы! – особы стареющие и скучные.
Таким образом, Кирилл поселился у Аристарха Павловича, тот, такой же одинокий, когда-то мечтавший о сыновьях, но имеющий дочерей, тихо этому радовался. В первый же день после обязательного «домашнего» ужина Аристарх Павлович достал припасенную бутылочку коньяку – грузинского, пятизвездочного, старого розлива, подпер дверь в квартиру Ерашовых каминной кочережкой, и они очень уютно устроились у огня, зажженного для красоты и удовольствия. Сидели, попивали вкусный коньяк из ерашовских бокалов черного стекла и вели мужской разговор.
«Тебе жениться надо, – написал Аристарх Павлович. – Не то попадешь в глухое место – сопьешься. А в людное, так по девкам затаскаешься».
– У меня задача – за эти два месяца найти невесту и жениться, – признался Кирилл. – Спиться не сопьюсь, у меня чувство меры… А вот к женатым офицерам совершенно иное отношение у командиров… Кстати, а почему бы тебе не жениться, Палыч?
«Хотел жениться, да инсульт помешал. Кому я нужен немой?»
– А некоторым женщинам это нравится! – с видом знатока заверил Кирилл. – В молчаливом мужчине чувствуется ум и сила.
Аристарх Павлович принес альбом, достал две фотографии и подал Кириллу.
– Дочки твои? – догадался тот, с любопытством оценивая девушек. – Вот эта мне определенно нравится. Как зовут?
«Ира. Она замужем», – написал Аристарх Павлович.
– Жалко… А то бы породнились, а? – засмеялся Кирилл. – Я бы тебя не Палыч звал, а папа!
Вторая, Наталья, по разумению Аристарха Павловича, была красивее, на два года моложе и к тому же незамужняя, но почему-то Кирилл не обратил на нее внимания. И все вертел в руках фотографию Ирины. «Дурочка, выскочила рано, – подумал про нее Аристарх Павлович. – Вот был бы тебе жених… Знать бы, из дому бы не отпустил».
Обе дочки Аристарха Павловича – сначала старшая, а потом и младшая – уехали в Москву, окончили училище маляров и стали носить странное, напоминающее отцу тюремный жаргон, имя – лимитчицы. Ирина вышла замуж, быстро освоилась в Москве и получила квартиру, а Наташа жила там уже четвертый год и все скучала по дому. Потому, наверное, и наведывалась чаще. Без письма, без телеграммы вдруг объявится на пороге:
– Здравствуй, папуля! Вот тебе гостинцы от меня, вот от Иры – любуйся. А я посплю. Посплю и поеду. Мне завтра на работу…
Проспит день в родном доме, а вечером на электричку – и как будто во сне приснилась…
Аристарх Павлович с Кириллом под мужской разговорчик незаметно приговорили бутылочку, повеселели, расслабились – захорошело!
– Давай, Палыч, споем нашу строевую? – неожиданно предложил Кирилл. – Я запевала! Ты подтягивай про себя. Ну? – И запел. – Во кузнице молодые кузнецы, во кузнице молодые кузнецы! Они куют, они куют – приговаривают. Они куют – приговаривают!..
Аристарх Павлович обрадовался, что строевая песня – совсем не военная, и стал подтягивать про себя. Кирилл же разошелся, сидя приплясывал, прихлопывал, дирижировал; в нем словно что-то прорвалось, открылось и выплеснулась наружу веселая, бесшабашная удаль. Заражаясь ею, Аристарх Павлович забыл, что за стеной давно уже спят бабушка Полина со своей приживалкой. Они допели «строевую», и Кирилл, не прерываясь, вдруг затянул казачью, знакомую, много раз петую Аристархом Павловичем.
– По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой!
И, не ведая того, не осознавая, что с ним происходит, Аристарх Павлович подхватил в полный голос:
– А дева там плачет, а дева там плачет, а дева там плачет над быстрой водой!
А спохватились они оба, когда допели песню, – заржали, как лошади, обнялись, потузили друг друга, поревели медвежьим ревом от восторга. Развязался язык!
– Солист! – орал Кирилл. – Шаляпин! А говоришь – немой!
– Тиимать! – восхищался Аристарх Павлович, но больше ничего не мог сказать – простую речь заклинило. Однако петь-то он мог! И собравшись с духом, он запел, как в опере:
– Еще бутылочку достану! И выпьем за язык!
Кирилл от смеха и восхищения повалился на пол. Смеялись до боли в скулах, до колик в животах; держали ладонями щеки, зажимали себе рты и снова взрывались хохотом, вытирали слезы. Аристарх Павлович выставил коньяк, с трудом плеснул в бокалы. Они выпили и прыснули оба, тыча друг в друга пальцами.
– Салют дадим! Дадим салют! – пропел Аристарх Павлович и, сунувшись под диван, достал кольт. – Видал, какая пушка?
У Кирилла и вовсе глаза полезли на лоб.
– Палыч?! Ну, Палыч!.. Во игрушка! Да ты и вооружен! Дай посмотреть! Во сила! Какого калибра? Мизинец лезет!
Он был еще совсем мальчишка: вертел кольт в руках, обласкивал, чуть не целовал. Аристарх Павлович отнял у него игрушку, всадил обойму и махнул рукой – пошли!
На улице они обнялись, как два алкоголика, и запели, направляясь за озеро в лес:
– Степь да степь кругом, путь далек лежит! В той степи глухой замерзал ямщик!
Кирилл слова этой песни знал плохо, но две последние строчки сразу запоминал, подтягивал, и получалось хорошо. Очень хорошо! Голоса подходили по тембру, сливались, и в вечернем темном лесу, под сводами крон, песня звучала, как в театре. А за озером, в сосновом бору, Аристарх Павлович выхватил кольт и дважды пальнул в небо.
– Салют! – пел он, словно колокол, а Кирилл трепал его за руку:
– Дай мне! Дай я!..
Аристарх Павлович вложил в его руку пистолет и, придерживая ее, направил в небо.
– Я сам! Я сам! – вырвался Кирилл. – Я же – офицер, тии-мать!
И тоже два раза выстрелил. После чего Аристарх Павлович забрал кольт, поставил на предохранитель и спрятал в карман.
– Патронов мало! – пропел он. – Шесть штук осталось.
– Да я найду к нему патронов! – пытался выклянчить Кирилл. – Дай еще! Хоть разок!
Аристарх Павлович по-скупердяйски выщелкнул патроны из магазина и оставил только один. Младший Ерашов, смакуя выстрел, аж постанывал от удовольствия. Грохотало здорово, наверняка в городе слышно, поэтому Аристарх Павлович запел уже серьезно:
– Теперь бежим, не то милиция приедет.
И они побежали. И дурачились по дороге: Кирилл изображал жеребенка, а Аристарх Павлович – немого хозяина.
– Ага, тиимать! – кричал он.
– Тиимать! – откликался «жеребенок», и оба ржали.
Оказывается, впопыхах и в восторге они забыли запереть входную дверь. Входили на цыпочках, вспомнив о соседях, да было поздно: у потухшего камина сидела Надежда Александровна. Она встретила мужчин презрительным молчанием и так же молча проследовала к себе, притворив дверь. Кирилл, по-школьному балуясь, передразнил ее походку и шмякнулся в кресло.
– Можно погулять русским офицерам? Законно погулять, находясь в отпуске?
Он был пьян и, как говорят алкоголики, сломался: руки не слушались, голова падала, хотя Кирилл старался держать ее прямо. Аристарх Павлович почувствовал свою вину, и грядущая завтрашняя выволочка от бабушки Полины в один миг смахнула молодецкую веселость и ухарство.
– Спать, Кирилл! – в приказном порядке запел он. – Ложись-ка на диван!
И почти волоком перетащил Кирилла в постель, раздел, укрыл и выключил свет. Сам же сел в кресло и радовался теперь тихо, под легкое свечение углей, исходящее из камина. «Ну и пусть, – думал он. – Пусть нам завтра влетит за гулянку. Было хорошо… Было так хорошо! И ему было хорошо, может, и к дому привыкнет. А к дому привыкнет – человек уже будет надежный. Глядишь, и я с ним оживу. Раньше говорил – теперь запел! Ну и буду петь. Буду петь…»
Наутро Кирилл проснулся, полежал, припоминая вчерашний шальной вечер, и тихо позвал:
– Палыч? А Палыч?
– Ага! – откликнулся тот.
– Здорово мы вчера погусарили? Со стрельбой… Или мне приснилась стрельба?
– Ага!
– Нет, ну правда? Салют давали?
– Ага! Тиимать…
Кирилл помолчал, повозился и сел на постели.
– Жениться надо… Действительно, забросят в глухомань – сопьюсь. И даже без глухомани могу… – И тут же поправился: – Нет, Палыч, я ведь редко выпиваю, от случая к случаю. Но чувствую, могу спиться.
– Ага, – поддержал Аристарх Павлович.
– Сегодня же пойду искать невесту, – серьезно сказал младший Ерашов. – Мы с парнями договорились… Через пару месяцев устроить совместную свадьбу. Ну, кто себе подруг найдет… А кто не найдет – с того штраф в пользу женихов… Все! – Он вскочил и стал делать энергичные упражнения. – Пьянки побоку, Палыч! Женимся! И ты тоже! За компанию, а?
– Ага! – засмеялся Аристарх Павлович.
– Палыч?! – вдруг закричал Кирилл. – Ты же вчера заговорил! Тьфу! Вылетело из головы! Ты же вчера песни пел! А какой голос у тебя прорезался! Ну-ка, спой!
Аристарх Павлович взял карандаш и крупно написал: «Боюсь!»
– Ну, блин, испугался! Пой!
«Пошли на кросс», – отписался тот и стал натягивать спортивную майку.
Они вывели жеребчика из стойла и побежали по аллеям, которые, если знать их расположение, замыкались в большой круг и проходили по самым заповедным местам Дендрария. Утро было ясное, роса еще искрилась повсюду и холодила ноги; остатки похмелья вылетели почти мгновенно. Заполошный жеребенок заставлял то набавлять темп, то сбрасывать его, вовлекал в игру.
Мужикам же было сначала трудновато, бросало в пот, подступала одышка, но расшевелились, взяли второе дыхание и стали замечать, что утро радостное, что трава в алмазах, как ордена, и птицы заливаются. На втором кругу Кирилл уже бегал взапуски с Ага, однако проигрывал: жеребчик, в крови которого бродила страсть к состязаниям, мгновенно набирал скорость и оставлял двуногого далеко позади. И потом, обернувшись, словно смеялся над ним: ну, как я тебя? То-то!..
На последнем кругу они свернули к озеру и, раздевшись на ходу, попрыгали в воду. И уж было начали веселую возню на отмели, да Аристарх Павлович вдруг хлопнул по голым ляжкам:
– Тиимать!
– Ты что, Палыч?
– Сколько время? – запел Аристарх Павлович. – На службу опоздал! Ага запрешь в сарай, накосишь сена! Я прибегу потом!
И помчался домой собираться на службу.
Кирилл, пользуясь случаем, часа полтора еще бесился с жеребчиком в воде, плавали с ним на другой берег, носились там по отмели и наконец, утомленные, нескорым шагом пришли домой. Ага он запер в сарае и пошел сдаваться бабушке Полине: делать нечего, после кросса и купания хотелось не есть, а жрать.
Бабушка Полина полулежала возле включенного телевизора и наблюдала борьбу у микрофонов.
– Полина Михайловна, простите великодушно, – дипломатично и ласково сказал Кирилл. – Мы вчера с Аристархом Павловичем устроили небольшую дружескую вечеринку… И пели песни.







