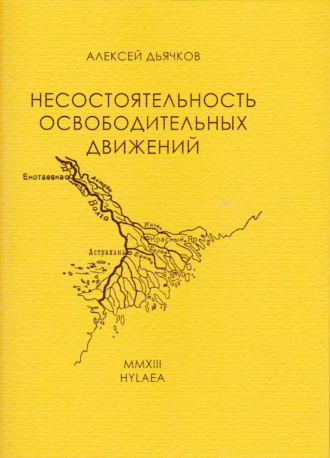
Алексей Дьячков
Несостоятельность освободительных движений
Повествование начинается с описания иллюзии, возникшей у персонажа, который профессиональный журналист, по поводу внешнего вида долины небольшого ручья. Тренированное зрение многое преображает: этот ручей может быть значительной рекой, но только если люди окажутся уменьшенных размеров.
Река в окружении глыб и суровых скал, деревьев нет, травы неотчётливы, заметных или явных результатов человеческой деятельности тоже нет. То есть, нет предметов с устойчиво определёнными размерами, по которым можно было бы масштабировать видимый ландшафт.
Заманчиво, и это ожидаемо, развить такой сюжет каким-то образом объяснимым превращением журналистской иллюзии в реальность. Чтобы не делать этого, Честертон сажает на берег некоего Фишера с сачком и придумывает аварию «бентли» – автомобиль падает с обрыва.
Теперь, когда нет реки, журналист наблюдает за расследованием убийства.
Я разговариваю со своей знакомой:
– Что ты скажешь о происшествии недалеко от Харабали: два человека пошли в лесополосу за дровами для костра и долго не возвращались?
Оказывается, моя знакомая ничего не слышала об этой истории. Она просит меня рассказать её, и я рассказываю всё, что мне известно.
Вот что, немного в других словах, я ей рассказал.
Павел Абросимов был рабом у рыбаков, незаконно вылавливавших рыбу осетровых пород. В этом качестве он провел несколько лет на одном из островов в Каспийском море, где его хозяева, а это были калмыки, дагестанцы или русские, чьи семьи проживали в краснокирпичных особняках в Астрахани, Камызяке или Ахтубинске, имели базу для отстоя быстроходных катеров и основной обработки поднятой рыбы.
Там были и другие рабы, всего не меньше десятка – все с ярко проявленным особенным фенотипом – худощавые и мускулистые мужчины любого, возможного у людей, возраста. Похожие друг на друга – только разность путей проникновения в эту общность не позволяла выделить их в отдельную расу.
Глядя на них, но не так, как смотрят глазами (из-за привычки отводить их, сформированной долгим общением с аварцами и калмыками, которые, по причине своей этологической ахронии, воспринимали прямой взгляд как оскорбление или вызов), а просто – зная про их существование рядом, Абросимов некоторое время замечал в происходящем сходство с описанной жизнью Иосифа при дворе фараона и пытался опытно подтвердить концепцию рабства, с которым можно мириться, имея в виду азиатский способ производства и приняв перед этим за исходное то, что совсем свободных не бывает.
Постоянно, в бешеном темпе происходящая работа не оставляла кружащуюся от усталости голову и намного больше утомляла, чем повседневный труд по положению. Сознание будто убегало или, скорее, собиралось убежать, было всегда на старте, и попытки придержать его или с линии старта отвести, оставались безуспешными и, хотя не прекратились совсем, сделались незаметными для Абросимова. Теперь ему удавалось лишь почувствовать громоздкие разминки сознания, подтягивающие голову и остальное тело за собой и оставляющие все же их на месте.
Такое со многими людьми бывает, может, и остальные рабы про себя понимали в этом же роде.
Эти рабы могли понимать свою ситуацию подобно ему – видимо соглашаясь с возможностью увлечения карьерой раба. Не потому, что их успокаивали мифологические и исторические прецеденты – они не очень-то были знакомы с Ветхим Заветом, конечно, не читали романа и предваряющего его эссе Томаса Манна, вообще, были слабо подготовлены для критического осмысления своего статуса, но просто так им было удобней.
Таким образом, возникшее у Абросимова самоопределение «Иосиф и его братья» оказалось неточным в смысле образа. Но, учитывая его изначальную неточность (остальные сыновья Иакова не были рабами в том смысле, в каком были рабами Иосиф и Абросимов с теми, кого он в шутку обозначил братьями), оно приобретало другую (неуловимую на новом витке спирально задуманного тропа) верность, подтверждавшую общность участи, которая уже через секунды предлагала освоить очередной нюанс придуманного сходства, и понималась как-то иначе.
Трудно сказать, как думал Абросимов сначала и что считал верным после – будто поэт, в сегодняшних стихах и снах он отстаивал те положения, с которыми беспрерывное письмо природы вынуждало его мириться спустя месяцы или несколько лет. Также трудно проявить причины большинства или всех дельта неустойчивых воззрений Абросимова.
Тем не менее, то или иное – отличное от коротких и ускользающих мыслей – длящееся заметное время, иногда прорывалось в его голову. Для Абросимова заметное в последнюю очередь, но эффектом наблюдателя не описываются состояния и процессы в природе – он только коэффициент такого описания.
Однажды за косяк – по дощатой гати, наведенной над периодически затопляемой частью острова, Абросимов таскал солярку в ведрах, споткнулся и опрокинул одно из них в полуторакубовую чашку с пробитой кашей – даги его избили и бросили в мокрую яму, зарешеченную деревянными кольями. В это и почти всегда в любое другое время в ней жил Сергей Арсентьевич – лымарь белоглазый, старик с правой рукой, обрезанной по локоть.
От постоянной сырости его кожа распухла и сделалась похожей на грязную поверхность домашнего сыра, многочисленные раны на теле покрылись неровными наплывами, так что казалось – это трещины на древесной коре, в которых могут зимовать насекомые, а часть зеленых волос уступило место тине, или они ассимилировали хлоропласты и уже не выглядели грязными.
Оказавшись в луже, занимавшей большую часть пола, в полусознании, Абросимов едва не захлебнулся гнилой водой, но вода и помогла ему очухаться. Он переполз к одной из стенок – под ней воды не было. Сергей Арсентьевич быстро подскочил и попытался его изнасиловать. Абросимов то пробовал сжать зубы, то память о житейских правилах его отпускала. Старик, приборматывая, будто уговаривая кровь заполнить его пещеристое тело, возил членом по разбитым губам и щекам Абросимова, до тех пор, пока того не стошнило.
Само по себе соприкосновение с рвотными массами не остановило бы старика, но теперь Абросимов сообразил, как ему следует поступить, и сумел резко двинуть руками, упертыми в грудь насильника – старый раб отлетел в середину лужи.
– Я отгукаю тебя, как немого, если ещё раз полезешь. – Проговорил Абросимов, но его нельзя было расслышать, потому что не остановленная мысль не могла объяснить необходимость произнесения этих или каких-то ещё слов.
Старик сунулся к одной из стенок – у него там была потайная нора, и он стал в ней копаться. Целой рукой достал оттуда бутылку и переложил её под прижатый к груди обрубок, потом – какую-то закуску.
– Попей водку, Пашутка. Раз так получается, то попей её.
Абросимов отхлебнул раз, а следом за ним второй, чтобы водка второго глотка прошла незаметно, пока первая порция обжигала разбитый рот, потом откусил кусок визиги и долго жевал его.
Сергею Арсентьевичу приносили спиртное в качестве благодарности за некоторые выдумки, разнообразящие быт рабов. Принятое осетинское пойло не повлияло на способ Абросимова переживать инцидент. Он не чувствовал неловкости или обиды, он, может, только в течение секунды осознавал, что такое чувство возможно в принципе.
Сергей Арсентьевич допил оставшееся в бутылке, быстро опьянел и больше они не разговаривали друг с другом. Старик только о чём-то бредил или болтал бессвязное с реальностью. Наверное, только внешне, Абросимов вел себя так же.
Вечером клетчатые тени от решётки сжались в одну толстую линию под восточным обрезом зиндана, а ещё позже растворились в темноте. Скрываясь от вдруг замеченных комаров и зуда в местах укусов, Абросимов сполз в тёплую лужу, а некоторое время спустя, не в силах вспомнить причины этого купания, подумал, что в стариковском тайнике могут быть сигареты. Он проплыл к стенке влево, как ребёнок, перебирая руками по дну: мама, я плаваю! Поднялся и пошарил в норе – среди мелких кусков рыбьей тухлятины нащупал жестянку из-под кофе. В ней точно были сигареты и зажигалка.
Старик изменил тембр своего бормотания, впрочем, не приближая смысла слов к происходящему, но Абросимов коротким «дуло залепи» успокоил его. Потом сумел закурить и вернулся на место.
Абросимов смотрел на противоположную стенку, возможно, он увидел её, но, спустя минуты (из-за бега сознания, в каждом новом эпизоде для его поимки требовались другие способы, изобретая которые, приходилось тратить время, а потом не вспомнишь, для чего ловил), понял, что снова и снова ему мерещится одно и то же: неровности обнажённой почвы, пряди корешков и капающая с них вода приобрели вид профилей, а потом и смотрящих на него лиц. Усвоенное наблюдение почти вышло из внимания Абросимова, когда он расслышал голос Сергея Арсентьевича. Теперь он к нему обращался:







