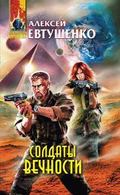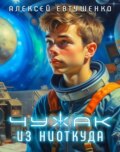Алексей Евтушенко
Чужак из ниоткуда – 3
Глава четвёртая
Телефонное право. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
– Ничего не понимаю, – завуч школы – крашеная рыхлая блондинка лет сорока восьми по имени Лидия Борисовна Гуменюк сняла очки и посмотрела на меня холодными голубыми глазами. – Ты что же, и восьмой класс не закончил?
Аура Лидии Борисовны не внушала оптимизма. Завуч была обременена лишним весом килограмм в двадцать пять, сахарным диабетом второго типа, повышенным кровяным давлением и скверным характером.
Моё обаяние на неё тоже не подействовало. Редкий случай, но бывает.
Что ж, не всегда коту масленица, а то уж больно везло мне последнее время на хороших и отзывчивых людей.
Сесть товарищ Гуменюк мне не предложила, хотя стул для посетителей в её кабинете пустовал. Ничего, мы не гордые, постоим. Пока.
– Не закончил, Лидия Борисовна, – сказал я вежливо. – По независимым от меня обстоятельствам.
– Это по каким же? – голос у завуча тоже оставлял желать лучшего – властный, с пронзительными, чуть ли не визгливыми нотками, он, казалось, стремился проникнуть прямо в мозг собеседника, расположиться там по-хозяйски и ни в чём себе не отказывать.
Ну уж нет.
– Меня не было в стране.
– И где ты был?
– В Соединённых Штатах Америки.
– Где?!
– Лидия Борисовна, – произнёс я как можно спокойнее, – какая разница, в конце концов, где я был и почему? Поверьте, если начну рассказывать, наше общение затянется надолго, а времени у меня мало, – я повернул стул для посетителей так, чтобы сидеть к завучу лицом, уселся, забросил ногу за ногу. – Думаю, вам тоже есть, на что его потратить с большей пользой. Моё желание простое и абсолютно не противоречит нашим советским законам. Я всего лишь хочу закончить среднюю школу. Экстерном.
– Это невозможно, – она отодвинула мои документы.
– Почему?
– Потому что ты даже восьмой класс не закончил. Где это видано – экстерном сдавать экзамены сразу за три класса?
– Что вы предлагаете?
– Можем зачислить тебя в восьмой «Г» класс. Приходи первого сентября, начинай учиться как все, вливайся в коллектив, а в следующем учебном году будем смотреть. Может быть ты после восьмого класса и в девятый переходить не захочешь, поступишь в какой-нибудь техникум? Обычное дело. Знаю я вас таких, нетерпеливых. Сегодня одно, завтра другое, а мы, учителя, вам потакай. И вообще, почему ты без родителей явился? Ещё и уселся без разрешения, нога за ногу. Демонстрируешь какой ты независимый? Запомни, для меня ты – никто и звать тебя никак. Здесь тебе не Кушка или откуда ты там приехал. Всё, свободен, первого сентября приходи.
– Хорошо, – я поднялся. – Документы остаются у вас, я зайду через… – посмотрел на часы, – пятнадцать минут, и мы продолжим нашу замечательную беседу. Советую никуда не отлучаться из кабинета.
– Наглец! – лицо Лидии Борисовны пошло красными пятнами. – Забери свои документы с моего стола! Сейчас же!
– Не нервничайте, Лидия Борисовна, – сказал я ровным тоном. – Давление подскочит. Оно вам надо? Пятнадцать минут, напоминаю.
И вышел из кабинета.
Моя служебная «волга» уже ждала у школы. Я вызвал её заранее, ещё перед выходом из квартиры, чтобы не терять времени.
– Доброе утро, Василий Иванович! – поздоровался я.
– Доброе утро, Серёжа! – Василий Иванович начал складывать газету «Известия», которую читал. Он всегда её читал в свободное время. Удивительного постоянства человек. – Куда едем?
– Пока никуда, – сказал я, и снял трубку телефона.
После того, как в моём распоряжении оказалась машина со служебным правительственным телефоном, жить и решать вопросы стало намного удобнее. Несмотря на всё, упорно декларируемое, равноправие советских граждан, бюрократизм властных структур зашкаливал. В Кушке это было практически незаметно, поскольку откуда там взяться бюрократии? Город военных. Приказали – сделали. Не приказали – не сделали. Проявил инициативу – выполняй. К тому же все друг друга знают.
Не то в Москве.
Всякий маломальский начальник считал здесь себя чуть ли не пупом земли, которому простые граждане должны кланяться и смотреть в рот. При этом сам он точно так же, кланяясь и глядя в рот, смотрел на вышестоящее начальство. Такая, вот, круговая порука. Чем ниже властный эшелон (любой – советский, партийный или правительственный), тем больше в нём было этой дурной чванливой бюрократии, тормозящей любое здравое дело.
Все это прекрасно видели, понимали, страдали, но системно что-то изменить не могли.
Так и рулили страной с помощью телефонных звонков.
Чем выше во властной иерархии звонящий, тем быстрее можно рассчитывать на результат. Плюс личные связи, от этого тоже много зависело.
– Вторая, здравствуйте! – раздался в трубке голос телефонистки.
– Ермолов, – сообщил я свою фамилию. – Здравствуйте! Будьте добры, соедините меня с министром просвещения Прокофьевым Михаилом Алексеевичем.
Я мог бы позвонить министру и напрямую, но для этого нужно было подниматься в квартиру, потому как «вертушка»[4] была установлена только там. К тому же мне нравилось звонить из машины через коммутатор, пользуясь услугами телефонисток. Было в этом что-то живое и тёплое, некое уходящее очарование прошлого, что-то вроде керосиновой лампы, от которой когда-то, на войне, любил прикуривать дядя Юзик. Казалось бы, я и так в прошлом, куда уж дальше – ан, нет. То, что казалось прошлым ещё год-полтора назад, уже стало для меня настоящим.
– Соединяю!
Длинные гудки, трубку сняли.
– Прокофьев слушает, – послышался в трубке глуховатый голос министра.
Мы встречались с Михаилом Алексеевичем на том самом совещании в Совете министров и даже обменялись несколькими доброжелательными фразами – министру просвещения было приятно, что неожиданного юного гения, к которому нынче прислушиваются в самых высоких эшелонах, воспитала наша советская школа. Она же, как ни крути, дала ему и первоначальные знания, без которых этот очень молодой человек не придумал бы того, что уже придумал. И, очень может быть, ещё придумает.
– Здравствуйте, Михаил Алексеевич, – бодро сказал я. – Серёжа Ермолов беспокоит.
– Здравствуй, Серёжа! – голос министра потеплел. – Слушаю тебя.
Я вкратце изложил суть дела, извинившись в конце, что беспокою по столь пустяковому вопросу.
– Ничего, Серёжа, правильно сделал, – заверил меня товарищ Прокофьев. – В нашем деле пустяков не бывает. Как, говоришь, завуча зовут?
– Гуменюк Лидия Борисовна, – повторил я.
– Покури десять минут, пока я ей позвоню. Потом иди. Думаю, вопрос решится, – в голосе министра просвещения проскользнула усмешка.
– Не курю, Михаил Алексеевич, – сказал я. – Но я понял.
– Действительно не куришь. Всё время забываю о твоих годах.
– Годы здесь ни при чём, – заметил я. – Курить не собираюсь и впредь. Ибо курение не просто вредная привычка, как у нас принято считать, но самое настоящее зло. Наркомания. Да, никотин – лёгкий наркотик, на сознание человека не действует. Но – наркотик.
– Круто берёшь, – сказал Прокофьев.
– Могу обосновать.
– Не сомневаюсь. Но с этим тебе лучше к Трофимову Владимиру Васильевичу[5].
А ведь это мысль, мелькнуло у меня. Слон по имени Воспитание не обойдётся без реформы здравоохранения, в которой не последнюю роль должен играть добровольный отказ советских людей от курения и водки. Условно добровольный, конечно, человек так устроен, что добровольно от губительных удовольствий не откажется. За редким исключением. Значит, надо подтолкнуть. Здесь без министра здравоохранения не обойтись. Ох, и взвалил ты на себя дел, Серёжа, выше крыши.
– Обязательно обращусь, – сказал я. – Спасибо, что напомнили, Михаил Алексеевич.
– Десять минут, – напомнил товарищ Прокофьев и положил трубку.
Я подождал двенадцать минут и вернулся в школу.
При моём появлении завуч поднялась со своего места. На её лице сияла насквозь фальшивая улыбка.
– Что ж ты сразу не сказал, Серёжа, что от самого Михаила Алексеевича? – с мягкой укоризной осведомилась она. – Разумеется, мы всё сделаем и в кратчайшие сроки.
– Вот и славно, – сказал я.
Мы обговорили порядок и сроки. Я пообещал, что предварительно познакомлюсь с учителями, возьму все необходимые учебники и методические пособия, и мы расстались с Лидией Борисовной если не на дружеской ноте, то весьма довольные друг другом. По-моему, она поняла, что я не собираюсь становиться ей врагом, но желательно всё-таки от этого непонятного провинциального вундеркинда с такими связями избавиться побыстрее.
Лучший способ – дать, что он хочет.
А там мало ли, – может, и пригодится в жизни полезное знакомство.
– Едем? – осведомился Василий Иванович, когда я уселся рядом.
– Теперь – да. В Калининград[6]. Центр подготовки космонавтов.
– Другой конец Москвы, – прикинул шофёр. – Как всегда, через город?
– Конечно. Ни за что не откажусь лишний раз Москвой полюбоваться.
За последнее время я полюбил ездить по Москве на машине. Была в нейэдакая спокойная ширь – как бы зародыш необъятной шири всей нашей Родины. Едешь – и радуешься. А уж с таким водителем как Василий Иванович и вовсе не езда, а сплошное удовольствие.
Мы проскочили по относительно новой Профсоюзной улице, выехали на Ленинский проспект, пролетели его с ветерком, возле метро «Октябрьская» свернули на Садовое. Из набежавшей тучки брызнул «слепой» дождик. Струи воды с неба красиво засверкали под солнечными лучами.
Бывает всё на свете хорошо, —
В чем дело, сразу не поймёшь, —
А просто летний дождь прошёл,
Нормальный летний дождь.
Раздалась, словно по заказу, из включённого радио песня.
Я прибавил звук, эта песня мне нравилась. Как и фильм.
Мелькнёт в толпе знакомое лицо,
Весёлые глаза,
А в них бежит Садовое кольцо,
А в них блестит Садовое кольцо,
И летняя гроза[7].
Пел Никита Михалков. В фильме он пел её в метро, но сейчас, казалось, поёт, сидя с нами в машине.
Попав в «зелёную волну» светофоров, прошелестели по мокрому асфальту Садового кольца, свернули на проспект Мира. Вот уже и ВДНХ. Промелькнула и уплыла назад знаменитая на весь мир скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», и я в очередной раз подумал, что постамент для столь мощного произведения искусства явно низковат.
МКАД, Ярославское шоссе, Калининград; и вскоре Василий Иванович затормозил у ворот Центра подготовки космонавтов.
Я посмотрел на часы. Дорога заняла сорок шесть минут. Очень неплохой результат.
Меня ждали.
Проверив документы, открыли ворота. Молчаливый сопровождающий показал, где можно поставить машину, повёлвнутрь одного из зданий. Быстро прошли коридорами и вскоре оказались внутри залитого дневным и электрическим светом обширного павильона, чем-то напоминающего заводской цех. Правда, в отличие от заводского цеха, здесь было тихо.
Мы прошли мимо закопчённого посадочного модуля и ложемента для космонавтов, установленного рядом.
Мой сопровождающий молчал, но я и без него догадался, что это. Не просто догадался – сразу узнал.
Первые космонавты планеты Гарад, начиная от Сентана Ирма, летали на похожих кораблях. Что до ложемента, то современные кресла космических пилотов были его прямыми потомками и даже внешне не так уж сильно изменились. Кемрар Гели не раз и не два лежал в таком (по древней традиции, несмотря на гравигенераторы, пилоты и члены экипажа при старте с любой планеты не сидели, а лежали в креслах).
Странно? Ничего странного. Чем дольше я жил на Земле, тем больше убеждался в правильности своего изначального предположения о том, что люди и силгурды произошли от одного далёкого предка. Уж очень мы были похожи. Просто один в один. И не только физически.
Так что при виде этого древнего посадочного аппарата и ложемента моё сердце забилось быстрее. Чёрт возьми, я и не предполагал, как соскучился по космосу и всему, что с ним связано! Даже запахи. Мне казалось, что даже запахи здесь похожи на те, которые Кемрар Гели вдыхал когда-то в Центре подготовки космических пилотов имени Сентана Ирма в Новой Ксаме.
Да что запахи, если этот центр, в котором я сейчас нахожусь, тоже носит имя первого космонавта Земли – Юрия Гагарина! Прямо такое ощущение, что домой попал. Эх, жаль нельзя ни с кем поделиться столь волнующими впечатлениями. Пока нельзя.
Мы подошли к белоснежному шарообразному макету космического корабля.
«Союз», – прочёл я название, начертанное красными буквами на его круглом боку. Макет стоял на возвышении, люк был открыт, к нему вела от нас лёгкая металлическая лесенка.
– Валерий Фёдорович! – позвал мой сопровождающий. – Товарищ полковник! К вам гости!
Надо же, подумал я, говорить умеет.
– Ждите, – сказал мне сопровождающий, развернулся и ушёл, не попрощавшись.
Внутри макета завозились, в открытом люке мелькнула чья-то рука с часами, затем голова, и вот уже и люка выбрался и встал в полный рост летчик космонавт Советского Союза, Герой Советского Союза, полковник Быковский Валерий Фёдорович собственной персоной, облачённый в рабочий комбинезон.
Я поймал себя на том, что улыбаюсь:
– Здравствуйте, Валерий Фёдорович! Вот и я.
– Серёжа! – воскликнул он, спускаясь по лесенке и протягивая мне руку. – Юный кушкинский герой-пограничник! Как же, помню!
Рукопожатие у товарища космонавта «номер пять» было всё такое же крепкое, а улыбка всё такая же доброжелательная.
– А ты изменился, – сказал Быковский, окинув меня внимательным взглядом. – Дело даже не в том, что повзрослел, это естественно. А… как-то значительней стал, что ли. Был же мальчишка мальчишкой, а теперь – уверенный в себе юноша.
– Есть маленько, – сказал я. – Валерий Фёдорович, разговор у нас довольно длинный будет, я не очень сильно вас отвлекаю?
– Нормально, – сказал он. – Ты же предупредил об этом по телефону, я соответственно график перестроил. Так. До кабинета далеко… Знаешь что, пойдём в уголок отдыха, там удобно будет поговорить, здесь рядом.
Уголок отдыха – мягкие, обитые кожей кресла вокруг журнального столика с парой роскошных фикусов в кадках располагался на открытой галерее-площадке второго этажа. Мы поднялись к нему по металлической лестнице, уселись. Отсюда открывался прекрасный вид на весь павильон.
– Тренажёрный зал кораблей «Союз», – сказал Быковский. – Здесь мы учимся на них летать.
– Класс, – сказал я с искренним восхищением. – Валерий Фёдорович, а хотели бы летать выше, дальше, быстрее и дольше?
– Странный вопрос. Какой лётчик или космонавт этого не хочет!
– Я пришёл вам это предложить.
– Во как, – весело улыбнулся лётчик-космонавт. – А почему именно ко мне?
– Так вы единственный космонавт, кого я знаю, – признался я честно. – Кроме того, мне нужен ваш конфиденциальный совет в ещё одном вопросе.
Дверь открылась, и на площадку вышел человек в военной форме с генеральскими погонами на плечах, орденскими планками и двумя Золотыми звёздами Героя Советского Союза на груди.
Волевое лицо, крепкий, подтянутый. Лет пятьдесят на вид, с густыми, зачёсанными назад волосами и густыми бровями, чем-то напоминающими знаменитые брови Леонида Ильича Брежнева.
Я его сразу узнал. Береговой. Единственный в мире космонавт, получивший первую звезду Героя Советского Союза ещё на войне, а вторую за полёт в космос.
– Здравия желаю, товарищ генерал-майор, – поднялся я с места.
– Здравствуйте, – ответил Береговой, внимательно меня разглядывая. – А ведь я, кажется, вас знаю. Сергей Ермолов, да?
– Можно на «ты», товарищ генерал-майор.
– Зови меня Георгий Тимофеевич.
– Кажется, один я здесь ничего не знаю, – сказал Быковский.
– Для этого я и пришёл, – сказал я. – Чтобы все всё узнали.
– Очень удачно, – сказал Береговой. – На ловца и зверь бежит. Я как раз думал, как Серёжу к нам пригласить, – обратился он к Быковскому. – А вы, оказывается, знакомы?
– Не поверишь, – сказал Быковский. – Помнишь, я в прошлом году в Кушку летал, в командировку?
– Было такое.
– Помнишь, рассказывал, как пацанов награждал, которые наших пограничников спасли во время песчаной бури? Они там её «афганцем» называют.
– Не может быть! – воскликнул Береговой и посмотрел на меня. – Так это ты?
– Ага, – сказал я и обезоруживающе улыбнулся.
– Чувствую, всё не зря и не просто так, – сказал товарищ генерал-майор. – Пошли ко мне в кабинет. Здесь говорить не очень удобно.
Глава пятая
Маркс и Вернадский. Как попасть на Луну
Руководителем центра подготовки космонавтов генерал-майор Береговой Георгий Тимофеевич стал в июне этого года, когда мои приключения в США подходили к концу. На совещании в Совете Министров его не было, но о гравигенераторе он, естественно, знал, а обо мне ему рассказал пару дней назад Николай Павлович Фёдоров – директор ДПКО «Радуга».
– Тут уже все конструктора ракетной техники взбудоражены твоим гравигенератором, как девицы перед первым свиданием, – сообщил он, когда мы расселись у стола в его кабинете. – Прямо сказать, я долго не верил, что это возможно. Пока сам не увидел.
– Погодите, – слегка растерянно сказал Быковский. – Серёжа, так это ты изобрёл и построил гравигенератор? Я слышал про какого-то мальчишку-супергения, но и предположить не мог, что это ты.
– Я и сам не мог до недавнего времени, – сказал я, – Вот что клиническая смерть с человеком делает.
– Клиническая смерть?
– Она, – подтвердил я. – Был на грани.
– Что-то мне в Кушке говорили на этот счёт, но я, признаться, не запомнил, – Быковский покачал головой.
– Мне тоже говорили, – сказал Береговой. – Но я не поверил. Кажется сказкой. Натуральной.
– Самому так иногда кажется, – сказал я.
– Рассказывай, – потребовал дважды Герой Советского Союза.
Рассказ о моих, чудесным образом появившихся сверхспособностях и знаниях, стал уже довольно привычным и укладывался, даже в неспешном изложении, в десять-двенадцать минут. Проверено.
– Слушаешь, – как будто фантастическую приключенческую книжку читаешь, – сказал Береговой, когда я закончил. – Был обычный советский мальчишка, потом чуть не погиб под колёсами грузовика и неожиданно приобрёл какие-то невероятные знания и умения.
– Как будто с неба они на тебя упали, – сказал Быковский.
– Может, и с неба, – сказал я.
– Как это? – космонавты переглянулись.
– Если под небом понимать не верхний слой атмосферы, а то, о чём писал великий русский учёный Владимир Иванович Вернадский, – сказал я.
– Ноосферу? – вспомнил Быковский.
– Её, – подтвердил я. – А также некое гипотетическое информационное поле Земли, где уже находятся все знания и изобретения. Тот самый ящик, о котором говорил отец Кабани из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Сунул руку – р-аз, и достал!
– Читал, помню, – сказал Быковский.
– Я не читал, но что-то слышал о таком информационном поле, – признался товарищ генерал-майор, но… – он неопределённо помахал рукой в воздухе. – Это же мистика какая-то, нет?
– Ну почему же сразу мистика, – произнёс я уверенно. – Некоторые философы полагают, что учение о ноосфере Вернадского и Пьера Тейяра де Шардена берёт свое начало непосредственно от работ Маркса. А ноосфера и упомянутое информационное поле коррелируют друг с другом самым непосредственным образом.
– Интересно было бы услышать фамилии этих учёных, – усмехнулся Быковский. – Но мысль интересная, не спорю.
– Судите сами, – продолжил я. – Вернадский утверждал, что для успешного и счастливого развития человечества необходимо равенство людей всех рас и религий; определяющее участие народа в вопросах развития государства; свобода научной и инженерной мысли; уничтожение голода и нищеты; выход в космос, освоение и обживание Солнечной системы; новые, практически неисчерпаемые источники энергии; разумное преобразование Земли; недопустимость войн, наконец. Чем не марксизм? Да эти пункты хоть завтра можно включать в планы построения коммунизма.
– Красиво излагаешь, – тонко, по-лисьи улыбнулся Быковский.
– Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, – сказал Береговой. – Вернадский, ноосфера и всё прочее – это, конечно, хорошо и даже прекрасно. На практике что?
– На практике я предлагаю поставить хороший, уже проверенный заводскими испытаниями гравигенератор на ракету «Протон» с космическим кораблём «Союз» и полететь на Луну, – сказал я.
– Ни больше, ни меньше, – засмеялся Береговой.
Быковский был серьёзен.
– Вы же сами говорите, что конструктора ракетной техники аж подпрыгивают от нетерпения, – продолжил я. – Правильно делают, я тоже с ними говорил. Что даёт нам гравигенератор? Массу ракеты и корабля вместе с полезной нагрузкой он, понятно, не уменьшит, а вот гравитационную постоянную изменить может. Посредством нейтрализации гравитационного поля Земли или любого иного небесного тела или объекта. Теперь давайте представим, что ракета с кораблём стоят на Байконуре, на старте. Включается гравигенератор, и вот уже сила тяжести вместе с ускорением свободного падения уменьшается… ну, пусть в десять раз.
– Вторая космическая скорость, – сказал Береговой.
– Была одиннадцать и две десятых километра в секунду, а стала, один, – подхватил Быковский. – Примерно. Точнее – считать надо.
– Вот вам и фантастика с реальностью, – сказал я. – И сколько в этом случае полезной нагрузки поднимет на орбиту тот же «Протон», и с какой скоростью и какими затратами топлива мы долетим до Луны?
– Мы долетим, – с акцентом на «мы» произнёс Береговой. – Прости, Серёжа, но ты ещё маловат, чтобы на Луну летать.
– Ага, – сказал я. – Как гравигенератор построить – не маловат, а как лететь… Но я согласен, что этот вопрос можно обсудить и позже.
Космонавты засмеялись. Я тоже.
– Значит, возражений нет? – спросил я, когда смех утих.
– Ещё каких-то три года назад я бы ухватился за это предложение обеими руками, – сказал Валерий Фёдорович Быковский. – Больше того, я и сейчас об этом мечтаю. Однако вынужден задать вопрос.
– Зачем, – сказал Береговой и кивнул понимающе.
– Именно, – сказал Быковский. – Зачем? Даже с гравигенератором – это всё равно очень дорогое удовольствие. Престиж? Так американцы нас уже обогнали.
– Им проще, – добавил Береговой, – они деньги печатают, весь мир, считай, на доллар подсажен, как на наркотик. А мы на свои кровные рубли живём. И всё равно в декабре крайний раз полетят. «Апполон–17». Насколько мне известно, конечно. А мне известно.
– Отсутствие новой научной ценности и непомерные расходы американских налогоплательщиков, – явно процитировал Быковский. – Даже они поняли, что нечего пока на Луне человеку делать.
– При вчерашних обстоятельствах – да, нечего, – сказал я. – Но уже сегодня обстоятельства изменились.
– И как же они изменились? – поинтересовался Береговой.
– Энергия, – сказал я. – Миром будет править не тот, у кого много долларов, золота или даже нефти, а тот, у кого много дешёвой энергии. Луна – это и есть то самое море. Более того – океан.
– Поясни, – попросил товарищ генерал-майор.
Я пояснил.
Сначала повторил те же аргументы, которые приводил в разговоре с Фёдоровым и Березняком по поводу сверхпроводимости и месторождений редких земель, которые наверняка на Луне имеются в достаточном количестве. А затем выложил новый, который приберегал в качестве козыря:
– Гелий–3. Изотоп гелия. Два протона один нейтрон. На Луне его должно быть до фига и больше.
Почему я делал столь смелые предположения? Очень просто. На спутнике Гарада – Сшиве, очень похожей на Луну во всех смыслах, силгурды давно добывали и редкоземельные металлы и гелий–3 в необходимых количествах. Если всё это есть на Сшиве, должно быть и на Луне. Более того, мне было совершенно точно известно, что он там есть.
– Вы, конечно, знаете, что на Земле гелия–3 практически нет в природных условиях, – продолжил я. – Точнее, он есть, но добыть его – очень трудная и дорогостоящая задача. Зато гелия–3 много в солнечном ветре, он на Солнце постоянно вырабатывается. Если говорить просто и грубо, магнитное поле Земли не пускает солнечный гелий–3 в атмосферу…
– … а у Луны нет магнитного поля, поэтому он там в реголите спокойно накапливается в течение сотен миллионов лет, – закончил за меня Быковский. – Так?
– Бинго, Валерий Фёдорович! – воскликнул я. – Больше скажу. Есть в Америке такой научно-популярный журнал, Scientific American. Или, как его часто сокращённо называют сами американцы, Sci Am.
– Есть такой, – кивнул Быковский.
– Так вот. Как-то в библиотеке города Сент-Луис, что в штате Миссури, я наткнулся в одном из номеров этого журнала на данные исследования лунного грунта, который был доставлен на землю ещё экспедицией «Апполон–11»: Нилом Армстронгом, Майклом Коллинзом и Баззом Олдрином. Так вот, среди прочего в грунте был обнаружен и гелий–3.
– Устал тебе поражаться, Серёжа, – сообщил товарищ генерал-майор. – Как ты попал в Сент-Луис?
– Так меня же ЦРУ выкрало в апреле этого года, – сообщил я. – Хотели секрет антиграва получить. Только хрен им, а не секрет. Я сбежал и потом три месяца странствовал по США с бродячим цирком. Наши помогли домой вернуться, забрали меня из Сан-Франциско в июне. В конце месяца.
– Нет слов, – сказал Береговой. После чего достал из шкафа бутылку минеральной воды «Боржоми» и три стакана. – Будете?
– Будем, – сказал Быковский и посмотрел на меня. – Ты как?
– С удовольствием.
Береговой открыл воду, разлил по стаканам.
– Ну, за Луну.
– За нашу Луну, – сказал я.
Быковский засмеялся.
Чокнулись. Выпили.
– Продолжим, – сказал я. – Вы наверняка спросите, зачем нам гелий–3 в больших количествах?
– Мы примерно догадываемся, – усмехнулся Быковский. – Но ты всё равно расскажи. Хочется, так сказать, услышать из юных уст.
И я рассказал.
О безопасной с точки зрения радиационного заражения термоядерной реакции одной тонны гелия–3 с шестьсот семьюдесятью килограммами дейтерия, при которой гипотетически высвобождается энергия, равная энергии сгорания пятнадцати миллионов тонн нефти.
О том, что тридцати тонн гелия–3 хватит, чтобы обеспечивать всю Землю электроэнергией целый год, а по самым осторожным подсчетам на Луне могут быть сотни тысяч тонн этого изотопа…
– Погоди, погоди, – остановил меня в этом месте Береговой. – Ты так говоришь, словно действующий термоядерный реактор у тебя в кармане. А между тем до управляемой термоядерной реакции нам как до Юпитера. Если не дальше.
– Долетим и до Юпитера, Георгий Тимофеевич, – пообещал я. – Но сначала всё-таки Луна. В кармане не в кармане, а прикидки действующего термоядерного реактора уже есть, ими занимаются специалисты. Первые отзывы – положительные. Думаю, будет у нас управляемый термояд и довольно быстро. А следующий за ним – кварковый реактор и Дальняя связь.
– Это ещё что за звери? – спросил Береговой.
Я вкратце объяснил.
– Но это, конечно, ещё не завтра. Сначала, повторю, Луна и база на Луне. Без базы ничего не получится. Я слышал, у нас и проект такой базы уже имеется?
– Слышал он, – пробурчал товарищ генерал-майор. – От кого, интересно? На нём, между прочим, гриф «совершенно секретно» стоит.
– От Устинова, – сказал я просто. – Дмитрия Фёдоровича[8]
Космонавты переглянулись. Кажется, уже в третий раз за нашу встречу. Или четвёртый.
– Однако, – крякнул Береговой.
– Мы как раз обсуждали с ним экономическую целесообразность полётов на Луну, – пояснил я. – На кораблях с гравигенератором, разумеется. Пришли к предварительному выводу, что это может быть выгодно. Хотя, конечно, ещё нужно считать и считать. Но уже считают.
– Ты меня, Серёжа, конечно извини, – сказал Береговой, – но, если я сейчас позвоню Дмитрию Фёдоровичу, он подтвердит твой допуск? Потому что одно дело рассуждать о том, чего пока и близко нет и совсем другое – обсуждать имеющиеся сведения и планы под грифом «совершенно секретно».
– Хотите, могу сам позвонить, – предложил я. – У меня карт-бланш на подобные звонки. И не только на них.
– А позвони, – товарищ генерал-майор показал мне на телефон. – Вот с этого аппарата. Не вертушка, но девушка соединит.
– Знаю, – сказал я и снял трубку.
Секретарь ЦК КПСС Дмитрий Фёдорович Устинов оказался на месте.
– Здравствуй, Серёжа, – услышал я в трубке его голос. – Как твои дела?
– Всё в порядке, Дмитрий Фёдорович, спасибо, – сказал я. – Извините, что беспокою. Я сейчас в Калининграде, в Центре подготовки космонавтов, у нас обстоятельная беседа с товарищами Береговым Георгием Тимофеевичем и Быковским Валерием Фёдоровичем.
– Это насчёт Луны?
– Да.
– И, вероятно, руководитель Центра подготовки космонавтов товарищ Береговой сомневается в твоих полномочиях, а также допуске к секретным сведениям, – в голосе Устинова я уловил толику веселья.
– Угадали, товарищ генерал-полковник.
– Хватит уже, Серёжа, генеральничать. Для тебя я Дмитрий Фёдорович. Дай трубку Береговому.
– Вас, – я протянул трубку товарищу генерал-майору. – Устинов.
Выслушав секретаря ЦК КПСС, Береговой положил трубку и посмотрел на меня. Во взгляде боевого лётчика, фронтовика, космонавта и дважды Героя Советского Союза искра интереса, до этого лишь теплившаяся, перерастала в устойчивое и уже чуть ли не гудящее пламя. Подобное тому, которое вырвется скоро из дюз взлетающего к Луне космического корабля.
Это они ещё про мои отношения я Леонидом Ильичом Брежневым не знают, подумал я.
– Ну что? – полюбопытствовал Быковский.
– Думаю, у этого молодого человека допуски не ниже нашего, – сказал Береговой. – Чёрт, аж закурить захотелось.
– Вредно, – сказал Быковский.
– Без тебя знаю. Я не сказал, что закурю. Захотелось, – он дважды глубоко вздохнул и выдохнул. – Всё, уже перехотелось. Забавно. На войне я курил. Папиросы «Беломор». Иногда «Казбек». Знаете, от чего любил прикуривать?
Быковский отрицательно покачал головой.
– От керосиновой лампы, – сказал я. – От раскалённого воздуха, который из неё поднимается.
– Да он шаман, Валера! – воскликнул Береговой обескураженно.
Быковский засмеялся.
– Мой прапрадед был деревенским колдуном, – сказал я. – С животными умел разговаривать, гипнозом владел. Но на самом деле волноваться не о чем. Просто у меня есть один хороший знакомый, фронтовик, который тоже так любил прокуривать на войне. Только он танкист, а не лётчик. Вот я и догадался. Так что у нас с лунной базой?
– Есть такой проект, – подтвердил Быковский. – Называется «Долговременная лунная база „Звезда“». ГСКБ[9] «Спецмаш» делает, Владимир Павлович Бармин и его ребята. В заключительной стадии, основные параметры определены, эскизные и даже частично рабочие чертежи уже имеются. Даже интерьеры разработаны, в МАРХИ ребята-студенты делали. Талантливо. База на девять-двенадцать человек. Энергия – от солнечных батарей и ядерного реактора. Девять цилиндрических блоков-модулей. Каждый длиной восемь и шесть десятых метра и диаметром три и три десятых. В них – всё: жильё, командный пункт, научная лаборатория, мастерская, склад, медпункт, спортзал, камбуз со столовой. Всё вместе – около восемнадцати тонн. С твоим гравигенератором, конечно, всё это доставить на Луну будет гораздо проще, но всё равно деньги громадные, а финансирование затормозили.