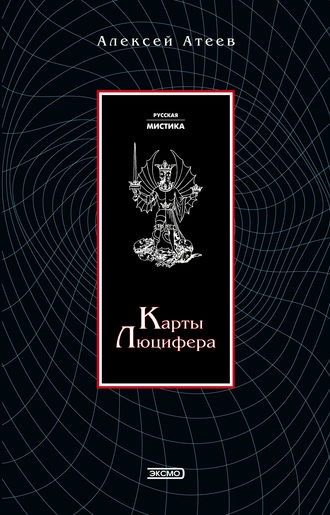
Алексей Атеев
Карты Люцифера
Глава 1
SUB ROSA[1]
В чем дело? Кто зовет меня из преисподней щели?
Ты кто? Ты театральный маг иль маг на самом деле?
А если театральный ты, ты сам того же мнения,
Что старый хлам все дьяволы, волхвы и привидения.
Карло Гоцци«Любовь к трем апельсинам»
9 мая 1945 г. Прага
Громадная комната, скорее зал, казалась наполненной мраком. Какое время суток за ее стенами: утро, день, вечер – не поддавалось определению, здесь царила ночь. Непонятно, имелись ли в помещении окна. За тяжелыми драпировками их проемы практически не угадывались. Правда, одно место в комнате – массивный письменный стол – было слабо освещено. Источником света являлся вычурный бронзовый канделябр в виде обнаженной женщины с факелом в руке. Электрическая лампочка, вделанная в факел, горела вполнакала, к тому же беспрестанно мигала. Однако человеку, сидевшему за столом, освещения, видимо, вполне хватало. Он задумчиво разглядывал разложенные на столе игральные карты. Впрочем, были ли эти пестро раскрашенные листки на самом деле картами? Значительно крупнее обычных, они скорее напоминали средневековые книжные миниатюры, столь искусно были выполнены рисунки. Карты сверкали и как бы самостоятельно излучали свет. Краски искрились и переливались всеми цветами радуги, словно состояли из микроскопических драгоценных камней: сапфиров, рубинов, изумрудов…
Человек взял со стола один листок и поднес к глазам. Он изображал некое рогатое существо с козлиными ногами. Все остальные части тела имели вполне человеческие очертания. По бокам существа стояли на коленях две обнаженные фигуры – мужчина и женщина. Цепи от их ошейников существо сжимало в своих лапах.
Некоторое время человек, сидевший за столом, разглядывал карту, потом с презрительной гримасой отшвырнул ее прочь.
– Опять ты, – равнодушно сказал человек. – Считаешь, что тоже держишь меня на привязи? Посмотрим…
В эту минуту где-то за пределами комнаты раздался приглушенный грохот, и здание явственно тряхнуло. Мелодично забренчали подвески хрустальной люстры, упала на толстый ковер, а посему уцелела китайская ваза. Лампа последний раз мигнула и вовсе погасла.
Человек скрипуче засмеялся, поднялся и что есть силы рванул оконные портьеры. Они рухнули вместе с гардинами. Комнату залил яркий солнечный свет. Мужчина выглянул в окно. На чистенькой улочке, вдоль которой в два ряда выстроились богатые виллы, царило полное безлюдье. Вновь раздался грохот взрыва.
– Пора, – произнес мужчина, сбрасывая шелковый халат.
На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Атлетическое телосложение, рост выше среднего, светлые волосы с едва заметной проседью и серые глаза явственно указывали на арийское происхождение. Мужественность лица подчеркивал шрам на левой щеке. Несколько портила внешность лишь чрезмерно развитая нижняя челюсть, но, возможно, для кого-то она лишь усиливала ощущение волевого, непоколебимого характера. Мужчина подошел к столу, небрежно смешал карты, собрал их в колоду, которую, в свою очередь, положил в затейливого вида шкатулочку, как раз под размер колоды. Потом налил из стоящей тут же пузатой бутылки с надписью «Martell» половину хрустального стакана темно-янтарной, маслянисто поблескивающей жидкости, залпом выпил… Черты лица заметно разгладились, жесткие складки в уголках рта почти исчезли. Он расслабленно улыбнулся, потом подошел к тумбе, на которой стоял массивный «Telefunken», щелкнул тумблером, повернул колесо настройки. Стрелка поползла по шкале, послышалась английская, затем русская речь. Чайковского тут же сменил джаз, синкопы которого мгновенно перекрыл Бетховен.
Наконец человек нашел то, что искал. Из динамика раздались гортанные слова немецкого языка. Человек пару минут вслушивался в взволнованную скороговорку диктора, сообщавшего, что война закончилась, и приказывавшего частям германского Рейха сложить оружие, потом презрительно хмыкнул. Лицо его вновь обрело утраченную после коньяка жесткость.
Человек подошел к громадному гардеробу, распахнул его створки, извлек висевший на вешалке эсэсовский мундир и стал неторопливо одеваться. Судя по знакам различия, он имел звание бригадефюрера. Человек придирчиво осмотрел себя перед зеркалом, в довершение нацепил на бок кортик, щеткой смахнул несуществующие пылинки, потом извлек из кобуры «парабеллум», зачем-то дунул в ствол…
В эту минуту на улице послышался шум подъезжающего автомобиля, затем громкая русская речь. Человек вновь выглянул в окно, удовлетворенно кивнул и пошел к двери.
Перед входом в виллу остановился молодой боец, почти мальчик. Он с любопытством рассматривал фасад, украшенный затейливой лепниной. Похоже, он вовсе забыл об опасности, возможно, подстерегающей за резной дубовой дверью. Человек в эсэсовском мундире не спешил выходить наружу. Однако он повел себя довольно странно: поднял напольную вазу и швырнул ее о стену, словно нарочно желая привлечь к себе внимание.
Услышав шум, боец насторожился, выставил перед собой автомат и осторожно двинулся к двери. Эсэсовец вновь отступил в комнату, вернулся к письменному столу и облокотился на него. Пистолет он свободно держал дулом вниз. В дверном проеме показалась фигура бойца. Увидев немца, он застыл от неожиданности. Рослая фигура в черной униформе, парадный кортик на боку, а главное, пристальный, немигающий взгляд обратили бойца в соляной столб. Русский и немец, не мигая, взирали друг на друга: один – словно затравленный кролик, совсем забывший, что способен сопротивляться, другой – непонятно зачем выжидая. Наконец эсэсовец стал медленно поднимать свой «парабеллум». Это выглядело и вовсе глупо. Так лениво и расслабленно не стреляют даже по пустым бутылкам. Боец приоткрыл рот, в глазах его мелькнул животный ужас, лоб мгновенно покрылся крупными каплями пота. Немец мог бы застрелить его уже раз десять, но почему-то медлил. Наконец русский справился с испугом и направил на эсэсовца ствол автомата. Тот выпрямился во весь рост. Рокотнула короткая очередь. Дымящиеся гильзы посыпались на мягчайший ворс драгоценного персидского ковра. Немец с невиданным доселе проворством рванулся вперед. Пальцы его в последние мгновения ускользающей жизни попытались судорожно вцепиться в голенище кирзового сапога, но лишь скользнули по ребристой поверхности. Глаза эсэсовца на мгновение осветили угасающее лицо и тут же начали мутнеть. Боец продолжал стоять с разинутым ртом, крепко сжимая автомат, и вдруг, содрогнувшись всем телом, рухнул на пол. С минуту мгновенный судорожный припадок вроде эпилептического сотрясал все его существо, заставлял бессмысленно сучить руками и ногами, дергать головой, словно тряпичную куклу. Однако приступ тут же прошел. Боец вскочил на ноги и первым делом кинулся к столу, схватил шкатулку с картами.
– Барахолишь, Самохин! – услышал он за спиной и резко обернулся.
На пороге стоял молодой офицер.
– Да нет, товарищ старший лейтенант, какое там «барахолишь»… Сей минут зашел сюда. А тут он… – Самохин кивнул на лежащий ничком труп эсэсовца. – Ну, я и того… стрельнул.
– Стрельнул, – насмешливо передразнил офицер. Он с любопытством посмотрел на мертвеца. – «СС». И в больших чинах. И ведь доводили до всех приказ: немецких офицеров по возможности брать в плен.
– Так то – по возможности. А он чуть меня не пристрелил. – Самохин толкнул носком сапога лежащий на ковре «парабеллум».
Старший лейтенант нагнулся, поднял «парабеллум», повертел его в руках.
– Отличная игрушка! – оценил офицер оружие. – Смотри-ка, даже с золотой инкрустацией! – Он вытащил обойму, затем поднял скобу затвора и передернул ствол. – Почему-то незаряженный. Объясни, Самохин, как это он хотел застрелить тебя из незаряженного пистолета? А я, например, так понимаю твои действия. Зашел ты сюда – он стоит. В плен собрался сдаваться. Ты сразу смекнул: возись потом с ним. Барахолить помешает. Вот и пристрелил, недолго думая. Так?!
– Но, товарищ старший лейтенант!..
– Что это ты в руке держишь? Ну-ка, покажи. Конечно же, я прав. Интересная вещичка. Похоже, старинная. – Офицер раскрыл шкатулочку, достал карточную колоду.
– Красота-то какая! – восхитился он. – Похоже на карты, но в жизни ничего подобного не видывал. – Он небрежно взглянул на бойца. – Значит, так, Самохин. Карты эти тебе ни к чему, поскольку азартные игры в действующей армии запрещены. А посему я их конфискую. Вон можешь люстру забрать. В твоем колхозе такой точно ни у кого нет. Или, например, вон ту бронзовую бабу… Смотри, какие у нее сиськи замечательные. И попрошу не возражать, – строго добавил он. – А то неприятности будешь иметь за то, что не довел фашиста до штаба дивизии. Ладно, можешь продолжать барахолить.
Офицер сунул шкатулку в карман распахнутой шинели и повернулся к выходу. Самохин некоторое время смотрел своему обидчику в спину. На лице его было такое выражение, словно он собирался всадить в офицера очередь, как только что в эсэсовца, но тут на улице раздался зычный голос: «Хто бачив комроты?!»
– Пилипенко, будь он неладен! – в сердцах произнес старший лейтенант, тут же забыв про Самохина.
Боец остался один. Он еще раз оглядел роскошное убранство помещения, сплюнул и нажал на спусковой крючок. Разлетались вдребезги вазы, переломился канделябр на столе, с потолка посыпался стеклянный дождь от расстрелянной люстры.
– Ты чего, Самохин? Сдурел?! – закричал с порога прибежавший на выстрелы другой боец.
– Ненавижу ихнее добро буржуйское, – сквозь зубы произнес Самохин. – Одна беда от него.
Глава 2
ВИЗАНТИЙСКИЕ ЭМАЛИ
Я – дьявол, имя мое – сон.
Я – первая Ева, имя мое – Лилит.
Милорад Павич«Хазарский словарь»
Август 1966 г. Москва
Артем некоторое время стоял перед солидной, обитой настоящей кожей дверью и изучал потускневшую латунную табличку, гласившую, что здесь проживает Эраст Богданович Ладейников, профессор медицины, словно видел ее в первый раз. Вдоволь насмотревшись на изящные вензеля шрифта, которым была исполнена надпись, Артем покрутил винт старомодного механического звонка. За дверью раздалось едва различимое треньканье. Артем прислушался. Тишина. Он вновь принялся яростно крутить привод допотопного агрегата. Однако и это не возымело действия. Тогда Артем совершил кощунство – несколько раз сильно пнул профессорскую дверь носком растоптанного мокасина. Где-то в глубинах академической твердыни, за кожано-дубовыми вратами, послышалось робкое шевеление. Крепость, похоже, была готова сдаться.
– Не слышны в саду даже шорохи, – пропел Артем. – Все здесь замерло до утра… Открывай, Манефа. Свои.
Залязгали запоры и цепочки, дверь строго заскрипела, и на пороге возникла старушонка, почти карлица, в черных монашеских одеждах и таком же платке, повязанном по самые глаза.
– А, это ты, – без особого восторга произнесла она. – Ну, уж заходи, коли пожаловал.
– Хозяйка дома?
– Где ж ей быть. А ты, Артюша, зря в дверь ножищами тарабанишь, народ булгачишь. Нетерпелив больно. И так бы отворили.
– Извиняй, старая. Боле не буду.
Артем неторопливо разулся, подхватил свою объемистую холщовую суму, больше похожую на котомку странника, и уверенно двинулся по огромному плохо освещенному коридору. Бывал он здесь не один раз и дорогу знал хорошо. Карлица семенила позади, громко кряхтя. Посещая эту квартиру, Артем всегда удивлялся ее особому аромату. Тут постоянно пахло не то экзотическими пряностями, не то восточными курениями.
– Ты чего, старая, бурчишь? Животом маешься? – насмешливо поинтересовался Артем.
– Ходят тут всякие, – пренебрежительно отозвалась старуха. – Раньше таких, как ты, не то что на порог – в парадное не пускали. Из-за вас, дуроплясов, все несчастья наши… Был бы жив Эраст Богданович, царствие ему небесное, он бы тебе хвоста накрутил.
– Иных уж нет, а те далече, – хмыкнул Артем. – Бывал я и у Эраста вашего. Или позабыла?
Но карлица не стала вдаваться в воспоминания. Она лишь что-то злобно буркнула себе под нос.
Они вошли в просторную, несмотря на обилие находящихся в ней вещей, комнату.
– Привела вот, – ворчливо сообщила карлица, обращаясь к женщине, сидящей на старинном диванчике, обтянутом золотистым в синюю полоску тиковым чехлом.
Женщина оторвала взгляд от книги, подняла его на Артема и слабо улыбнулась. Холодная отчужденная улыбка была лишь данью вежливости. Радости от появления гостя дама явно не испытывала.
Она была хороша собой той красотой увядающих блондинок бальзаковского возраста, которые иной раз выглядят в этой поре более выигрышно, чем в молодости. Пышные формы, длинные медового цвета волосы, лень и расслабленность в движениях производят неизгладимое впечатление на определенную категорию мужчин-живчиков восточного типа. Именно к подобной категории принадлежал Вартан, нынешний муж дамы. Сейчас он находился в камере предварительного заключения одной из правоохранительных структур столицы.
– Здравствуйте, Агния Сергеевна, – приветствовал даму Артем. – А где Вартан?
– Неужели не знаете? – Розовый ротик саркастически скривился. – Сидит.
– Беда-то какая, – притворно вздохнул Артем.
Он демонстративно обвел глазами обстановку комнаты, словно видел ее в первый раз. Тут было на что посмотреть. Мебель, в настоящий момент зачехленная, – павловский ампир. На стенах картины: небольшой набросок Шишкина, осенний пейзаж Поленова, две работы Лемоха: «Молодица за прялкой» и «Портрет крестьянского мальчика». Имелись и западноевропейские мастера, в частности «малые голландцы».
Обстановка и большинство картин принадлежали прежнему мужу хозяйки, тому самому профессору медицины, о котором повествовала дверная табличка. Лет двадцать назад, сразу после войны, немолодой уже ученый муж женился на своей студентке, в ту пору высокой, медлительной блондинке, на чьем лице обычно присутствовало несколько сонное выражение. После замужества и окончания института Агния сохранила и даже упрочила в своей натуре негу и истому. Словно золотая рыбка в аквариуме, она медленно и плавно передвигалась по просторной квартире, время от времени выходя со своим Эрастом Богдановичем (она звала мужа только по имени-отчеству и всегда на «вы») «в свет», обычно в Большой театр. Детей у профессорской четы не имелось. Хозяйство вела карлица Манефа, вывезенная из какой-то подмосковной деревни и с тех пор проживавшая в семействе Ладейниковых в качестве не то кухарки, не то экономки. В Агнии она души не чаяла, испытывая к ней прямо-таки материнские чувства.
По прошествии энного количества лет в семействе Ладейниковых случилась трагедия: в одночасье скончался Эраст Богданович. «Кондратий хватил», – выразилась безутешная Манефа.
Поскольку Агния ни часу в жизни не проработала, встал вопрос о пропитании.
Профессор медицины оставил после себя кое-какие сбережения, но главное, обширную коллекцию живописи и антиквариата, так что голод вдове не грозил. Реализация тоже не составляла проблемы. Манефа отнесла в комиссионку набросок к картине Иванова «Явление Христа народу» и получила взамен сумму, достаточную для безбедного проживания в течение полугода.
Материальная сторона бытия тревог у Агнии не вызывала, но бытие зиждется не только на хлебе насущном. И тут возник Вартан. Этот знойный брюнет лет сорока попал в дом Ладейниковых, в общем-то, случайно, привлеченный рассказами о неслыханном наследстве, доставшемся вдове профессора. Вартан, кроме прочего, приторговывал и антиквариатом. Конечно, он явился не сам по себе, а с рекомендателем, тем же Артемом – Манефа за порог кого попало не пускала. Но не Шишкин и Поленов потрясли воображение огненноглазого восточного человека. Его наповал сразили пышные формы и ленивые повадки Агнии. Позже Артем пожалел, что ввел Вартана в дом Ладейниковых. Вартан родился в Бейруте в армянской семье, а после войны вместе с родителями и сотнями других армян приехал в СССР. Ереван молодому человеку показался слишком провинциальным, и в конце пятидесятых годов он подался в Москву. Вартан был неплохо образован, некоторое время учился в Бейрутском университете, кроме родного и русского, знал арабский и французский языки, но по натуре являлся авантюристом, стремящимся только к наживе и приключениям. Впрочем, Агнию он любил, называл исключительно «мон шер» и «мон ами», а коллекцию профессора медицины не только не разбазарил, а даже приумножил. В частности, среди скромных передвижников и сдержанных голландцев затесалась картина неизвестного немецкого мастера конца девятнадцатого века под названием «Купающаяся Сусанна». Роскошная красавица, выставив напоказ все свои прелести, плескалась в небольшом водоеме, скорее даже луже, а из-за кустов на нее похотливо глазели два уродливых старца. Дальнейшие намерения старцев были предельно ясны. Когда Манефе случалось пройти мимо соблазнительного полотна, карлица неизменно сплевывала.
Чем конкретно занимался Вартан, даже для Артема являлось полной загадкой. Скорее всего, по его предположениям, армяшка ворочал валютой. Сам Артем с подобными вещами принципиально не связывался, помня судьбу Рокотова, Файбышенко и Яковлева.[2] Любые, даже наивыгоднейшие сделки мгновенно переставали интересовать Артема, как только на горизонте начинала маячить расстрельная восемьдесят восьмая статья. Пару дней назад по Москве прошел слух, что Вартана «взяли». Ясно было, что разумный человек в квартиру, скорее всего, находящуюся под наблюдением, соваться не станет. Это как раз и устраивало Артема. Дело в том, что у Вартана имелась одна крайне интересная вещица, а именно византийские эмали. В надежде заполучить их Артем и пожаловал к Агнии.
– А когда его?.. – Артем замялся, не желая произносить роковое слово. В доме повешенного, как известно, не произносят слово «веревка».
– Вы зачем, собственно, пришли? – в свою очередь, поинтересовалась Агния, не отвечая на поставленный вопрос.
– Мы с ним, с Вартаном то есть, договаривались о продаже одной вещи…
– Какой конкретно?
– Да эмалей.
– Он мне ничего не говорил.
– Да как же тут скажешь. Не до этого. Обыск был?
– Естественно.
– Что же искали?
– Они, знаете ли, не сообщали, – усмехнулась Агния и встала, давая понять, что разговор окончен. Палевая в мелкий розовый цветочек шелковая пижама, видимо, была плохо застегнута, поскольку неожиданно разошлась, и на свет божий явилась большая вяловатая грудь с крупным коричневым соском. Нисколько не смущаясь Артема, Агния водворила грудь на место и застегнула перламутровую пуговицу. – Итак, молодой человек, разговор окончен. Без Вартана я ничего продавать не собираюсь.
Но Артем так просто сдаваться не привык. Он поднял на хозяйку свои нагловатые зеленые глаза и как бы между прочим сообщил:
– Тут недели две назад в «Правде» забавный фельетон напечатали.
– Я газет не читаю, – холодно отозвалась Агния.
– И зря. Иногда факты, изложенные в них, могут пригодиться. Вот вам пример… – Артем сделал многозначительную паузу.
– Продолжайте, – лениво вымолвила дама.
– Статейка называется «Створки шкафа открылись», и речь в ней идет…
– …о валютчиках, – закончила за него Агния.
– А говорите, газет не читаете, – нарочито упрекнул Артем.
– Вартан рассказывал. Он-то прессу штудировал от корки до корки.
– Тогда, наверное, он сообщил, что, помимо крупных сроков, этих ребят постигла полная конфискация имущества.
– Намекаете, и меня подобное ждет?
– Не исключено.
– Во-первых, до суда не имеют права, а во-вторых, большая часть имущества нажита моим покойным первым мужем.
В голосе Агнии Артему послышалось легкое беспокойство, и он решил усилить нажим:
– Оно, конечно, так, но коллекцию могут изъять как вещдоки. Тем более что эмали появились в вашем доме совсем недавно. И продал их Вартану лично я.
– А теперь, выходит, пожалели?
– В некоторой степени. Вернее, подумал, что Вартану они не скоро пригодятся. А если их изымут, то эмали, надо думать, безвозвратно пропадут, поскольку, скорее всего, их сочтут достоянием государства и передадут в какой-нибудь музей или в Гохран.
– Сколько же вы за них предлагаете? – деловито поинтересовалась Агния.
– Пятьсот рублей.
Агния мелодично засмеялась.
– Они стоят по меньшей мере раз в пять дороже. Во всяком случае, так говорил Вартан. Да и вам он заплатил, насколько я знаю, несколько большую сумму.
– Может быть, – не стал отрицать Артем. – Но бизнес есть бизнес. Хорошо, только из уважения к вам – тысяча.
Агния задумчиво сощурилась и еле заметно шевельнула розовыми пухлыми губками.
– Допустим, я отдам вам эмали, – наконец произнесла она, – а вернется Вартан… Как я стану ему объяснять?..
– А так и скажете. Мол, приходил твой старый друг. Напугал меня конфискацией, вот я и поддалась. – При этих словах Артем столь выразительно посмотрел на выдающийся бюст хозяйки, едва удерживаемый тонкой материей, что слово «поддалась» прозвучало явно двусмысленно.
Бледное лицо профессорши чуть заметно порозовело, она скромно потупила взгляд, а когда вновь подняла его, Артем понял: дело удалось.
– Доставайте ваши грязные деньги, – усмехнувшись, сказала Агния и вышла из комнаты. Артем извлек из своей холщовой сумы пачку десятирублевок.
Вскоре вернулась Агния. В руках она держала довольно большую плоскую деревянную коробку.
– Вот, получите, – сказала она, ставя коробку перед Артемом.
Тот поднял крышку, хотя прекрасно представлял себе содержимое. На черном бархате, в углублениях, повторяющих их форму, лежали три металлических предмета: довольно большой, сантиметров десять в длину, крест с распятием, маленькая квадратная иконка, на которой Георгий Победоносец поражает змия, и крупная, почти в половину листа писчей бумаги икона, изображающая Иоанна Предтечу. Поверхность всех трех вещей покрывали мелкие цветные вставки, сливающиеся в единый узор. Это и были характерные образцы византийской перегородчатой эмали.
Перегородчатая эмаль представляет собой ячейки, образованные тонкими металлическими перегородками, припаянными на металлическую поверхность ребром по линиям узора. Эти ячейки заполняются эмалевой пастой и обжигаются в печи. Получается очень красивый, разноцветный, рельефный фон, подчеркивающий основное изображение и создающий эффект объема, так как при обжиге возникают сочетания прозрачных и непрозрачных пятен, дающие ощущение теней. Сами же вещи выполнены из бронзы, серебра или золота. Цветные эмали были известны еще в Древнем Египте. В Византии же их начали изготавливать в VIII–IX веках, и скоро они не только достигли совершенства, но и породили целый ряд сначала подражаний, а впоследствии и совершенно оригинальных работ как в Западной Европе, так и в Грузии и на Руси.
Собственно говоря, византийские эмали, сами по себе, несомненно, большая художественная и историческая ценность, не являются чем-то уникальным. В свое время они довольно широко распространились по всему христианскому Востоку. Византийские купцы и монахи везли их во все концы православного мира. Состоятельные коллекционеры давно обратили на византийские эмали свое внимание. Однако следует добавить, что их очень активно подделывали, в том числе и весьма профессионально. Кстати, один из трех предметов, находившихся в коробке, а именно, серебряная нательная иконка, изображающая Георгия Победоносца, относилась именно к числу высококлассных подделок и была изготовлена в числе других в начале двадцатого века под руководством петербургского фотографа Сабина-Гуса. Но Артем этого не знал. Не знал он и другого. Икона Иоанна Предтечи была не рядовой эмалью, а являлась древней реликвией, почти святыней, а посему не имела цены, вернее, оценивалась неизмеримо больше тех денег, которые Артем надеялся за нее выручить. В апреле 1918 года комендант Кремля Павел Мальков по личному распоряжению председателя ВЧК Дзержинского произвел обыск на Троицком подворье, тогдашней резиденции московского патриарха Тихона. В ходе обыска были обнаружены и изъяты значительные ценности, представляющие собой предметы культа, в частности осыпанная драгоценными камнями церковная утварь. Однако икона Иоанна Предтечи в описи изъятых ценностей не зафиксирована. Исчезла она из патриарших покоев. Куда, так и осталось неизвестным.
В чем же заключалась ее якобы несказанная ценность? Дело в том, что икона Иоанна Предтечи принадлежала к числу так называемых «Корсунских реликвий». Киевский князь Владимир, крещенный в Корсуне, а чуть позже крестивший уже Русь, привез с собой из Корсуня различные предметы культа, в том числе и эту икону. Поскольку Владимир впоследствии был возведен в сан святых, вещи, ему принадлежавшие, тем более иконы, были осенены божественной Благодатью.
Изображение иконы «Иоанн Предтеча» имелось в знаменитой книге Н.П. Кондакова «Византийские эмали». Но поскольку этот громадный том, в парчовой обложке с шитой золотом закладкой, отпечатанный в 1892 году во Франкфурте-на-Майне тиражом 600 экземпляров и по праву считающийся самой роскошно изданной книгой на русском языке, простым смертным практически не доступен, Артем не был знаком с его содержанием. В других же трудах по византийскому искусству, особенно советской поры, упоминание об эмали «Иоанн Предтеча» отсутствовало.







