
Алексей Олейников
Легкое дыхание
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Редактор: Мария Головей
Издатель: Павел Подкосов
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта: Ирина Серёгина
Ассистент редакции: Мария Короченская
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Наталья Федоровская, Светлана Чупахина
Верстка: Андрей Ларионов
Иллюстрации на обложке: Алексей Курбатов / Иллюстраторское агентство Bang! Bang!
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© А. Олейников, 2025
© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
* * *
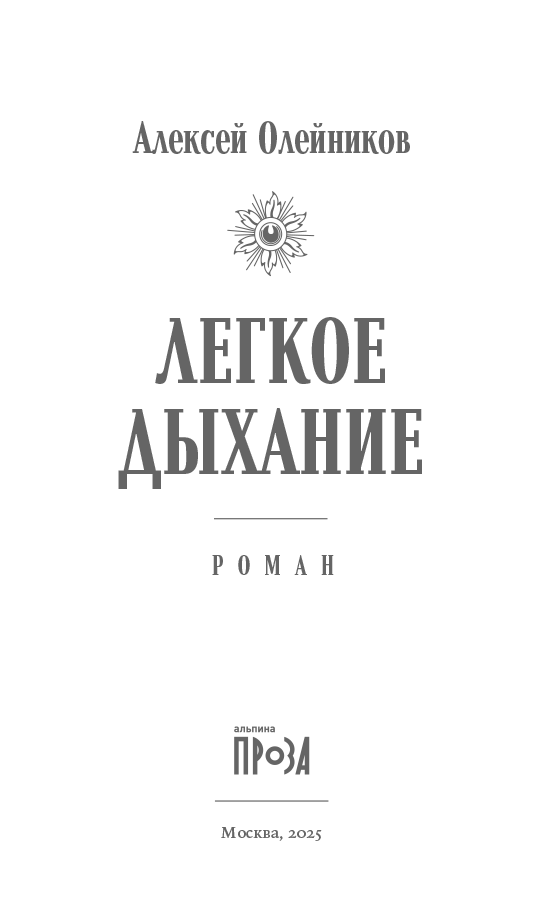
Глава первая
– А от в Чахломе-то, даров причастившись, простилась я со старцем Амвросием и пошла, пошла себе в Богдановск, к Божьей Матери Семистрельной, от всех бед заступнице. Ступай, сказал старец, душа грешная Лукерья – эт я, Лукерья-то, вот ступай да и не морочь, мол, мне голову, нет на тебе грехов – так и сказал, истинный крест.
Богомолка, замотанная в излохмаченный шерстяной платок совершенно необъятных размеров поверх линялой сорочки, вылупила глаза на собеседницу и мелко закрестилась. Лицо ее, загорелое и грязное, походило на печеное яблоко, коричневые морщинистые руки мелькали, она качалась, крестилась и не переставала бормотать.
– А как же нет грехов, когда они на каждом! На каждом есть, все мы замазаны, за всеми бесы скачут, всех хотят в искушение ввести.
Она поманила и, когда собеседница склонилась, зашептала горячо, обдавая запахом прелого лука, кислого тела и нехорошего дыхания.
– А скачут оне повсюду, сатане на радость, добрым людям на погибель знаешь, барыня, почему?
И, дождавшись «почему же, скажите на милость», продолжила.
– Когда ангел Господень их с неба скидывал, ножки бесы себе и поотшибали. С тоя поры то скачут, то хромают, а ровно ходить никак не могут. По тоей примете их и опознает народ християнский.
Собеседница ее склонила голову. Всем видом она выказывала немалую заинтересованность в предмете. А богомолка, найдя благодарную слушательницу, оперлась на суковатую палку, отполированную мозолями до мягкого блеска, и молотила, молотила языком, что твоя крупорушка.
– Так вот, в Знаменском монастыре в Богдановске-то всенощную отстояла и дале пошла, и по монастырям, по церквам благочестивым, и везде, матушка, меня привечали, и будто ангели небесные несли, и нигде я и ножки не преткнула. Такое вот сильно слово старца Амвросия. Да на что все тебе это, барыня? Нешто бесы одолевают, тоже в странничество податься хочешь?
Она с сомнением посмотрела на собеседницу. Высокая темноволосая женщина слушала ее с видом совершенного ребенка, полностью погрузившись в рассказ. Волосы ее были забраны в строгий учительский пучок, но живое полноватое лицо, свежее и розовое, было исполнено самого искреннего внимания.
– Одолевают, матушка Лукерья, одолевают, – закивала барыня. – Нет от них спасения, окаянных. Верно, вот думаю – пора тебе, раба Божия Вера, раздать все имение да и пойти по Руси-матушке, хлебом питаться, росой умываться, как ангелы небесные. Да грехи не дают, не пускают грехи-то.
– А ты гони, гони их! – посоветовала богомолка. – Гони грех постом да молитвой, будет тебе Христос опорой и защитою. И пойди, пойди, матушка, обязат пойди, во первую голову, стало быть, в обитель…
Завыл паровозный гудок, старуха завертелась, заозиралась, остаток фразы растворился в шипении пара. Барыня сунула ей рубль, та в ответ сдернула с плеча холщовую котомку, выудила оттуда тряпицу, узлом связанную, сунула Вере и тронулась в свой дальний путь.
Женщина вернулась на скамейку, села рядом с худощавым молодым человеком в светлом льняном костюме с намеком на щегольство. Мужчина выглядел утомленным и болезненным, на его бледном лице выделялись рыжеватые усики, а светлые брови, чуть вздернутые над прозрачными серо-голубыми глазами, придавали характер горестного удивления, словно он остановился перед великою загадкой жизни и не в силах ее ни разрешить, ни оставить и пойти своей дорогой. Мужчина читал «Северский вестник» с таким вниманием, словно искал там известие о кончине дорогого дядюшки, который должен был оставить ему наследство. Рядом лежала бежевая шляпа тонкого фетра и чуть слышно шипела открытая бутылка сельтерской.
– Решительно не понимаю, Вера Федоровна, зачем вам эти хождения в народ, – холодно заметил он, когда женщина села рядом, и перелистнул газету.
Вера, нимало не смущенная таким приемом, развязала тряпицу, полученную от старухи-богомолки, и высыпала на ладонь семечки.
– Вот, Вениамин Петрович, полюбуйтесь. Вам как доктору будет любопытно. Семена подсолнечника, которые пролежали ночь на могиле самого сильного старца в Чудовом скиту. По дешевке уступила Лукерья. Самое чудодейственное средство, от всего помогает. Не хотите попробовать? В вашем состоянии, может быть, это последнее средство для спасения жизни.
Доктор опустил газету, бросил короткий взгляд.
– Сколько вы за это отдали?
– Рубль.
– Выбросьте эту дрянь немедленно, – велел он. – Вы цены своим деньгам не знаете. Они трудовым потом, может быть, заработаны, каторжным трудом подневольных на одной из фабрик вашего батюшки, а вы их на эдакую ересь тратите.
– Деньги эти от отцовских патентов, и вам это хорошо известно, – хладнокровно ответила Вера Федоровна. – Оставьте этот студенческий тон, он вам не идет. И потом, с чего вы взяли, что этот рубль – за семечки? Столько стоила ее история.
– И все равно – выбросьте, иначе за ваше здоровье я не ручаюсь. Вы ее руки видели? Там вам и холера, и чума, и мор, и все казни египетские.
Вера пожала плечами и высыпала семечки наземь. Тотчас подскочили воробьи, деловитые, как пехотные прапорщики, и даже, казалось, в мундирах такой же расцветки, и начали клевать освященные семечки странницы Лукерьи.
– Вот вы спросили, зачем мне «хождения в народ», как вы выразились, – с легким упреком начала она. – Я бы не удивилась подобному вопросу от чужого человека. Но вы, Вениамин Петрович, вы меня знаете намного лучше! Вы когда-нибудь думали, дорогой доктор, как мало мы знаем о своих родных местах? Вообразите себе – ученые отправляются к папуасам, на Огненную Землю, Андаманские острова, на архипелаг Тонга, к черту на куличики, рискуют жизнью, преодолевают и морскую качку, и бури, и болезни, и угрозы смерти, лишь бы добраться до неизученных, неизвестных науке племен – успеть перенять их обычаи, переписать их сказания и мифы, прежде чем они исчезнут под натиском нашей цивилизации. Благородная задача, не так ли?
Доктор Авдеев безмолвно согласился, что задача, безусловно, благородная.
– А между тем среди нас, в нашем обществе, как в человеческих джунглях, обитают настоящие неизведанные племена. Десятки, сотни неизученных нами народов, в своих обрядах иногда отстоящих от нас куда дальше, чем какие-нибудь микронезийцы. И моя задача как ученого-антрополога изучать их. Фрэнк Кушинг прожил пять лет среди племени зуни. Он говорил как они, спал и пил как они, ел их еду, пел их песни и стал в конечном счете одним из индейских жрецов. Но так же и все эти странницы, паломницы, богомолки перехожие, христарадники – это же совершенно неведомая широкой публике сторона народной жизни, они представляют собой отдельный, особый слой человечества.
Вера разволновалась. Она встала, можно сказать, возвысилась над скамейкой (ростом она пошла в отца, купца первой гильдии Федора Мардариевича Остроумова, который, как в народе говорится, с неделю вырос и натощак его не обойдешь). Вера Федоровна была, конечно, постройнее, но знаменитая остроумовская порода и в ней читалась. Дед ее, Мардарий Остроумов, на спор теленка на руках вокруг базарной площади обносил, да все бегом. А на теленке чарка с водкой поставлена, так говорят, ни капли старый Остроумов не проливал.
Серые быстрые глаза, темно-русые мелко кучерявые волосы, легкий пушок у верхней губы – ее нельзя было назвать красивой, но живость речи и яркость (иногда чрезмерная) взгляда притягивали внимание. Немало было женихов у Веры Остроумовой, и гренадерский рост невесты их не пугал, а привлекало их вовсе не только отцовское состояние, но все напрасно. Под венец Вера Федоровна не собиралась.
– Стало быть, это было ваше… как вы его называете, включенное наблюдение за, так сказать, нашими местными туземцами? – Доктор сморщился и отпил сельтерской. – Такое же, как с теми татарскими пастухами на Ай-Петри? И в Одессе, когда вы неделю прожили на Молдаванке? Или когда я вас в цыганском таборе едва отыскал? Кажется, вас уже сосватали за какого-то видного цыганского барона?
– С цыганами я немного увлеклась, – признала Вера Федоровна. – Невыносимо скучно было на ваших сакских грязях. К тому же я уже выздоровела. А Василий горяч был, человек-огонь. Что он с семистрункой вытворял, вы себе не представляете.
Доктор Авдеев отпил еще глоток и с сомнением посмотрел на пациентку. Вот уже второй год, как он стал семейным врачом Остроумовых, и надо сказать, никакие пациенты не ставили его в тупик так часто, как брат и сестра Остроумовы. Перенял он практику у своего отца, который пользовал старого Федора Остроумова, «электрического короля», и всю его семью последние лет тридцать. Казалось бы, не чужие люди – Вениамин Петрович вырос в купеческом доме Остроумова и все его семейство было для него почти родственниками. И тихая, миловидная и болезненная Анна Егоровна, жена Федора, рано ушедшая от чахотки, и сам старик Остроумов, и двое их детей, переживших опасный детский возраст, – Вера и Аполлон. Вера была старше доктора на три года, Аполлон младше на три, так что они часто становились его товарищами в детских играх. Насколько, конечно, это возможно было с Остроумовыми.
Эксцентричный купец хотел, чтобы у него была личная церковь и собственный врач в любое время. Церковку о пяти маленьких куполах пристроили к правому крылу трехэтажного особняка, сооруженного из красного кирпича в готическом стиле, отчего вся постройка приобрела довольно эклектичный вид. Внутри церковь, как и весь дом, освещалась не газом, а электричеством, вырабатываемым личной станцией Остроумова, а по иконостасу так и вовсе лампочки пустили для подсветки святых, к неудовольствию благочинного Павсихакия.
А для врача он выстроил флигель в саду (с непременным водопроводом и электричеством), где юный Веня родился и вырос, да и сейчас живет.
Нет уже и отца и матери, лежит в земле старый Остроумов, погибший в ходе очередного безумного эксперимента по производству алмазов посредством пропускания сверхмощного электрического тока сквозь уголь. А наследники Остроумова, Вера и Аполлон, делят старый особняк в глухом уголке Замоскворечья. Дом с грифонами, как его местные зовут, – в честь литых фигур на столбах у ворот.
Вернее сказать, в особняке жил младший Остроумов – Аполлон, опекаемый слугами и самим Вениамином, потому что к жизни за пределами дома он был совершенно не приспособлен. Доктор Авдеев даже не был уверен, что младший Остроумов до конца замечал, что он живет один, – книги заменяли ему весь мир.
А вот Вера Федоровна как выпорхнула из гнезда в восемнадцать, отправившись в Петербург учиться на Бестужевских курсах, так с тех пор дома бывала лишь наездами. Только старый Остроумов и мог ее приструнить, пока был жив, а как умер – все, пиши пропало.
В Петербурге она умудрилась фиктивно выйти замуж для получения паспорта, чем привела в оцепенение всю провинциальную купеческую родню, а потом покатилось остроумовское колесо, как писал господин Гоголь в своем бессмертном сочинении, – сначала в Лондон, потом в Кембридж, затем в Сорбонну и опять в Кембридж. А уж потом Египет, Алжир, Конго, Гаити…
Письма, оклеенные марками так густо, что походили на чешую, приходили в тихий московский особняк из таких мест, каких и на карте-то не найдешь.
Доктор Авдеев был человеком современным и совершенно не отрицал передовой роли женщины в обществе. Читал он и «Крейцерову сонату» Толстого, и с большим сочувствием следил за деятельностью Лиги равноправия женщин, и полностью разделял их борьбу за расширение женских прав. Женщина, по его мнению, была товарищем и другом мужчины, и они должны были делить все тяготы строительства нового, лучшего мира. Медик, инженер, учитель, адвокат, чиновник, даже и военные должности – все профессии должны были покориться женщинам.
Но этнограф и антрополог? Нет, это даже для Вениамина Петровича было чересчур. Хотя, быть может, потому что это была Вера – их милая Вера, на которую он привык смотреть как на старшую сестру. Но Вера Остроумова никого не спрашивала. Она просто поступала так, как считала нужным.
Вот и сейчас – ей надо себя беречь, ведь после двух лет на Амазонке ее нервная система совсем расшатана. Те видения, а если точнее, галлюцинации, которые ее терзают, довели Веру до границы безумия. Бог знает, что она там видела, среди дикарей, в том зеленом аду, что ей пришлось пережить, через какие испытания пройти!
Вера была крайне скупа на рассказы о пережитом. Но когда Авдеев встретил ее в Париже, она была похожа на забытое воспоминание о самой себе. Он смог ее уговорить начать лечение – хотя совершенно не понимал, с чем же, черт возьми, он имеет дело, и только надеялся, что целительная сила сперва швейцарских, а затем и крымских пейзажей благотворно скажется на ее душевном состоянии. Расчеты оправдались: скука и покой зимнего Крыма немного успокоили Веру Федоровну. Безумства с цыганами и татарами – незначительный рецидив. Авдеев очень на это надеялся. Они провели в Крыму всю зиму и теперь возвращались домой, в Москву.
Всего сутки – и они будут дома, где к его услугам библиотека медицинского факультета Московского университета и опытные коллеги, которые наверняка сталкивались с подобным в своей практике.
Но ее неустойчивое поведение его беспокоило. Вера Федоровна очень походила на человека, которого изнутри терзает какое-то жгучее, неутолимое желание, и, чтобы заглушить его, он принимается за что угодно, лишь бы заглушить эту внутреннюю тягу к запретному занятию.
– Давайте пройдемся, – предложила Вера. – Я вам расскажу про монографию Кушинга. Особенности верований индейцев зуни. Очень интересно.
Доктор огляделся.
Все провинциальные вокзалы похожи друг на друга. Суета, шум, толкотня. Голуби носятся под навесами, воробьи бесстрашно скачут, выискивая себе пропитание среди мусора, брошенных билетов и шелухи от семечек.
Пассажиры первого класса прогуливаются в ожидании поезда, распространяя запах дорогих сигар и брокаровского одеколона «Цветочный», пассажиры третьего пахнут куда прозаичнее – дешевым кофе и яишницей – и смотрят на мир совсем не так благодушно. Куда-то спешит студент, надвинув картуз, орут дети, господин средних лет, по виду коммивояжер, задумчиво смотрит на пирожок, всегда готовый к его услугам и приобретенный тут же, в вокзальном буфете. На лице его отображается борение голода и опасение за свою судьбу, и даже боги не возьмутся предсказать исход сего борения.
Обходчик флегматично стучит колотушкой по колесам, и этот равномерный железный стук странным образом успокаивает, говорит: «Все идет своим чередом, поезд отправится по расписанию». Господа офицеры покуривают папироски, наблюдая за дамами. Носильщики в дурно смазанных сапогах, блистая бляхами на форменных синих блузах, волокут горы чемоданов, саквояжей, узлов и корзин. Все это видено множество раз и все же занимает многообразием и сочетанием человеческих типов.
– Пожалуй, составлю компанию.
Кряхтя, он поднялся и, подбадриваемый Верой, пошел по перрону. До отправления оставалось полчаса, отчего бы не пройтись. Кабы не проклятое кишечное расстройство, которое его настигло в пути, Авдеев бы и сам предложил пройтись. Он не любил сидеть на одном месте. Пресловутый пирожок с горохом и свиным салом, который доктор приобрел, находясь в каком-то умопомрачении, в Джанкое! Заворожила его толстая баба-продавщица, что ли?
Он еще помнил, что на обертку пирожков были употреблены старые ресторанные счета и ему достался замасленный счет на пять двадцать. Эти чертовы пять двадцать преследовали его уже вторые сутки, когда он поминутно посещал клозет. Больше всего Вениамин Петрович терзался не от телесных неудобств, а от того, что купе его было рядом с Вериным и та имела сомнительное счастье наблюдать путь страданий доктора Авдеева. Виа Долороза до клозета.
– Я сапожник без сапог, – говорил он, отпаиваясь минеральной водой на станциях. – Какой к черту «врачу, исцелися сам»! Если я вторые сутки не могу побороть элементарный понос! Простите, Вера Федоровна, за такие обороты.
– Зря вы отказались от моего средства, я бы вас мигом поставила на ноги. – Вера сочувственно подкладывала подушки и носила воду.
– Благодарю покорно. – Доктор прикладывал холодную бутылку ко лбу. – Меня сам профессор Бутаков на кафедру неврологии звал, у меня диплом с отличием. И вы предлагаете мне лечиться вашими корешками?
– Это не корешки, а отвар корня гигантской кувшинки, – обижалась Вера. – Верное средство при кишечных расстройствах. Индейцы им буквально спасаются. Знаете, сколько дряни в речной воде?
Увы, доктор не дослушал, ибо природа вновь повлекла его в постыдный побег по известному адресу. Теперь же, окончательно расставшись с иллюзиями по поводу своей компетенции и остатками подлого пирожка, он блаженно отдыхал на вокзальной скамейке, ожидая, пока их поезд перестыкуют, присоединят паровоз и они, наконец, уже двинутся домой, в Москву. Прогулка по шумному вокзалу – последнее, чего сейчас желал доктор Авдеев. Однако требовать того же от Веры Федоровны было решительно невозможно. Удержать на скамейке Cеверского вокзала особу, которая самостоятельно объездила всю Европу, прослушала курс этнографии в Кембридже, а потом два года в составе экспедиции провела в дельте реки Амазонки, не представлялось возможным.
– Знаете что, посидите лучше тут, – заявила Вера, когда они прошли немного. Она усадила его на следующую скамейку, вручила «Северский вестник». – Сердце разрывается на вас глядеть.
Доктор с благодарностью кивнул, падая на скамью. И в самом деле, он переоценил свои силы.
– Только воздержитесь, прошу, от всякого рода возбуждающих ваше воображение картин и событий, – попросил Авдеев.
– Какого рода возбуждающих? – уточнила Вера Федоровна. Она взяла со скамьи свой дорожный сак – объемистый, но удобный, какие обычно используют доктора. У Веры Федоровны в нем таилось немало чудес.
Тот самый порошок из корня кувшинки, например.
– Вы знаете. Все, что способно стимулировать ваше особое любопытство, вашу специфическую область интересов, – сказал Вениамин Петрович.
– Говорите прямо – мою тягу к смерти! – сказала Вера. – Вы, кстати, читали последнюю работу доктора Фройда? О влечениях? Очень любопытная, советую. Интересно, существует ли влечение к смерти? А если да, то как бы его назвали? Мортидо, от латинского «море» – смерть?
– Возможно, – сухо ответил доктор. – Вы же хотите, чтобы эти видения не возвращались? С тех пор как вы вернулись из экспедиции, вас так и тянет ко всякой мертвечине.
Вера покачала головой.
– Обещаю, сегодня никаких смертей, Вениамин Петрович.
Она подобрала юбку и двинулась по перрону шагом человека, отвыкшего от мостовых. Доктор Авдеев еще раз вздохнул и отпил уже теплой сельтерской.
Вера Федоровна, разумеется, сказала неправду. Но что ей оставалось? Если она хотя бы намекнет Авдееву, что ее видения возвратились, то он и ей покоя не даст и себя до корки доест. А ему нужен покой, как и всякому выздоравливающему.
Между тем то самое холодное покалывание в висках усиливалось. Доктор списывает все на совпадения, как истинный позитивист, он гонит черта мистицизма в окно и дверь и не преминет запустить в него едкой чернильницей своего остроумия, но Вера твердо знала – покалывания эти – никакие не телесные галлюцинации, а верный предвестник того, что в скором времени рядом произойдет смерть. И смерть насильственная.
Вера шла упругим быстрым шагом, высокие ботинки со шнуровкой легко несли ее. Она обогнула здание вокзала, и вокзальная площадь города Северска, согретая апрельским солнцем, распахнулась перед глазами.
Площадь была полна торопливого народу. По левому краю площади стояли коляски, брички, дрожки и прочие экипажи, и извозчики, сойдя с козел, толковали меж собой. Под ногами у них, и меж лошадиных копыт, и прячась за колесами, вертелись воробьи, выискивая упавшие зерна или копаясь в лошадиных лепешках.
Недавно прошел дождь, и пролетки, блистая спицами, разбрызгивали воду. Дребезжа всеми суставами, пересекала площадь конка – предмет насмешек горожан и гордость градоначальника. Внутри, как горох, тряслись пассажиры, но из-за отдаления восторженного выражения их лиц было не разобрать. По правую сторону площади тянулись разнообразные пирожковые, где торговали собратьями того подлого горохового пирожка, так коварно обошедшегося с Авдеевым. Люди пересекали площадь в самых разнообразных направлениях, а солнце, чуть задернутое кисеей жемчужных облаков, вставало над проспектом и обрисовывало все мягким размытым светом, какой бывает только в дни скоротечной южной весны.
На краткий миг Вере представилась совсем другая картина, совсем другой рассвет – теплое солнце расстилает огненный ковер по упругому речному шелку, и ладони гигантских кувшинок стоят, обжигаемые этим огнем, а в розовом тумане, встающем над великой рекой и великим лесом, несутся вдаль сотни ярко-зеленых попугаев.
Потом в виски ударило остро, сильно, очень сильно. Вера поняла – не здесь, позади, она прошла мимо. Торопливо помчалась обратно, выбежала на перрон, в ближний поезд – на Новочеркасск – грузился пехотный полк, и не протолкнуться было среди солдат, потом ударило совсем сильно – так, что в глазах потемнело. Вера замерла, оперлась на колонну, переводя дух, и услышала выстрел.
Впереди заволновались, закричали, толпа зашевелилась как единое живое существо, движимое смутным страхом опасности, в ней образовались людские водовороты – кто-то хотел притиснуться ближе, кто-то, наоборот, стремился уйти прочь. Притиснутый к вагону толпой, стоял какой-то низенький мужчина с лицом помятого поручика Лермонтова и с интересом наблюдал за происходящим.
Наконец Вера протолкалась и встала в передних рядах. Двое мужчин удерживали офицера в пехотном мундире, тот стоял не сопротивляясь. Третий выкручивал револьвер из его руки, а офицер будто и не замечал этого. Лицо его, плоское и рябое, с нелепыми черными усиками, было бледным, как папиросная бумага. Шагах в трех от него лежала девушка.
Очень красивая, черноволосая, в гимназическом сатиновом платье, голубом с белыми лентами, она лежала на спине, раскинув руки, и белая кашемировая шаль расплескалась как крылья. Кровавое пятно расплывалось на груди.
«Убил, убил, офицер убил, прямо в упор», – кружил вокруг многоголосый шепот и становился шумом прибоя. Веру знобило. Убитая лежала, повернув голову набок, черная прядь выбилась из прически и упала на мраморный лоб. Вера Федоровна проследила взгляд ее мертвых глаз. Быстро присела, подняла маленькую книжечку в зеленом сафьяновом переплете. И быстро пошла прочь.


