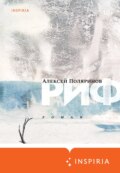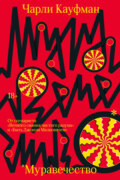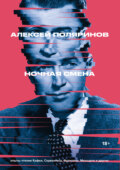Алексей Поляринов
Почти два килограмма слов
Об этом и пишет Делилло: «Мао II» – книга о столкновении двух миров: в центре первого – личность, в центре второго – идея. В первом мире жизнь человека бесценна, во втором – не стоит ни гроша. В первом мире любят ближних (родители, дети, друзья), во втором – дальних (царь, пастор, национальный лидер). В первом мире люди почитают конкретных личностей (писатели, ученые), во втором – абстрактных (царь, бог, святые). В первом мире основа этики – свобода выбора, во втором – покорность. Такой вот парадокс: чем ближе к «национальному единству», тем дальше от человека. И именно об этом – о чувстве беззащитности перед миром архаики, когда абстрактные идеи калечат реальных людей, – написан роман «Мао II». Само название здесь – ключ к пониманию книги. Оно отсылает нас к картинам Энди Уорхола. Размноженная, размалеванная морда диктатора.
Underworld (1997)
Как и в случае с «Мао II», толчком для написания романа Underworld послужило фото на первой полосе The New York Times.
«Я собирался написать повесть – страниц 50–60… идею я почерпнул из газетного заголовка, увидел его и понял, что 3 октября 1991 года – это сороковая годовщина той знаменитой игры».
Писатель отправился в библиотеку, чтобы найти микрофильм с архивами газет того времени, и увидел там обложку The New York Times – она была разделена на две равные части, слева – отчет о победе Giants и справа – сообщение об испытательном взрыве первой ядерной бомбы в Советском Союзе. «Так оно и вышло, – вспоминал Делилло, – стоило мне увидеть эту обложку, пути назад уже не было».
Underworld – самый большой и мощный труд писателя, здесь сталкиваются все важные для него идеи сразу: язык, консьюмеризм, токсичные отходы, терроризм, конспирология, религия, медиа, современное искусство.
Кроме того, Underworld еще и самый композиционно-совершенный роман американца: два главных героя, Ник Шей и Клара Сакс, ненадолго пересекаются в молодости, в Бронксе, потом теряют друг друга из виду, он становится экспертом по утилизации токсичных отходов, она – художницей, и спустя сорок лет они снова встречаются посреди аризонской пустыни. А между двумя этими встречами – холодная война, жизнь в страхе перед ядерным ударом, СССР, Кубинский кризис, эпидемия СПИДа и в целом вся политическая и социальная карта Америки. Но есть один нюанс: эпоху эту автор пересказывает в обратном порядке, ретроспективно, – словно отматывает время назад, из будущего в прошлое.
Пролог романа – подробный, детальный рассказ о самом известном бейсбольном матче в истории США – об игре Brooklyn Dodgers и New York Giants в 1951 году. И бодрое, спортивное начало задает тон всему роману: большие события (первые испытания ядерных ракет, эпидемия СПИДа и др.) здесь постоянно оттеняются маленькими, и мир огромный, эпохальный как бы нависает над другим миром – миром простых, повседневных вещей – и меняет его. Холодная война здесь не просто фон, она как дамоклов меч висит над каждым американцем, автор подробно описывает разлитую в воздухе тревогу, предчувствие близости конца – и то, как этот невроз, вечное ожидание ядерного удара – отразился на всей американской культуре и даже на быте: граждане в буквальном смысле лезли под землю, строя бомбоубежища.
Герои книги, к слову, не только люди, но и предметы: ракеты, шприцы и презервативы – три главных символа XX века. Делилло вслед за Пинчоном подхватывает тему ракет – их фаллической формы – и связывает ее с темой сексуальных неврозов и венерических болезней, главная из которых – СПИД (отсюда – лейтмотив шприцев и презервативов, которые бесплатно раздают волонтеры в рамках борьбы с эпидемией вируса в США).
Название здесь, кстати, тоже непростое: в русских статьях о Делилло его по умолчанию переводят как «Изнанка мира». На самом деле в книге слово обыгрывается в нескольких контекстах, но чаще всего именно как преисподняя, подземное царство. В одной из сцен главный герой, Ник Шей, думает о ядерном оружии и радиоактивных отходах, и мысль его по ассоциации перескакивает с плутония на Плутона – владыку подземного мира в римской мифологии («Pluto, god of the dead and ruler of the underworld»). По мысли героя, подземным миром правит Плутон, а XX веком – плутоний (то есть ядерные ракеты). Недаром картина Питера Брейгеля-старшего «Триумф смерти» – один из сквозных образов романа.
Ответить на вопрос: «Почему «Подземный мир» до сих пор не перевели на русский?» – довольно сложно, – его в первую очередь нужно переадресовать издателям, которые, кажется, не приложили вообще никаких усилий для того, чтобы донести имя Делилло до читателей; даже уже существующие переводы его книг (в скобках замечу: в целом Делилло очень хорошо переведен на русский) не спешат переиздавать. В таких условиях надежды на появление «Мира» очень мало, разве что кто-то из переводчиков-патриархов возьмется за работу просто из любви к автору. На издателей, как показывает время, надежды нет.
«Космополис» (2003)
Роман «Космополис» вышел в 2003 году и вызывал недоумение у критиков и читателей. После «Подземного мира» все ждали от Делилло чего-то похожего – огромного, эпохального, а получили небольшой медитативный текст, в котором все действие умещается в один день, а сюжет сводится к тому, что некий миллиардер едет в парикмахерскую, подстричься. Все. Да и романом это можно назвать весьма условно – скорее философское эссе о капитализме, нанизанное на вялотекущий сюжет.
Поэтому, когда спустя пять лет после выхода книги, в 2008-м, ударил финансовый кризис – и банки начали лопаться, как мыльные пузыри, – стало ясно: Делилло (как всегда, впрочем) опередил свое время. Сейчас, читая «Космополис», с его подробными сценами бунтов на Уолл-стрит и обрушением курсов акций, сложно поверить, что все это написано за пять лет до, собственно, обрушения.
Помимо прочего Делилло здесь идеально воспроизвел образ современного ада: бесконечная кафкианская пробка, которой нет конца, в которой все равны – и араб-таксист, и мать троих детей, и миллиардер в личном лимузине. Такая вот ирония: мир, повернутый на эффективности, скорости, энергосбережении, тайм-менеджменте, целыми днями жарится в пробке и никуда не движется.
Здесь же вновь проявляется главный талант Делилло – талант находить красоту и поэзию в обыденных, плоских и скучных вещах: в автомобилях, асфальте, общественных беспорядках, индексе Доу – Джонса, курсах валют и рекламных щитах у дороги.
А Эрик Пэкер – главный герой романа – имеет все шансы со временем стать именем нарицательным, таким же, как, скажем, Антуан Рокантен из «Тошноты» Сартра. Эрик – бизнесмен, он сделал себя сам, но ищет он вовсе не способ преумножить богатства, как раз наоборот – ресурсов у него так много, что аж тошнит, и утрата денег странным образом доставляет ему гораздо больше удовольствия, потому что чувство утраты – единственное настоящее чувство, которое он, пресытившись, теперь может испытать по-настоящему. У Эрика есть все, и тем не менее он чувствует острый дефицит настоящих эмоций и всячески пытается встряхнуть, гальванизировать свою жизнь и нервную систему – и делает это через боль: сперва он просит любовницу выстрелить в него из электрошокера, затем, ближе к концу, сам стреляет себе в ладонь из револьвера.
И в этом смысле «Космополис» – по-настоящему философский, экзистенциальный роман в духе Камю или Сартра, «Тошнота» XXI века, роман о бессилии, о тщетных попытках выжать из идеи прогресса, из мира победивших технологий хоть каплю смысла.
«Падающий» (2005)
(См. эссе «Культура и трагедия: 11 сентября, Беслан и „Норд-Ост"».)
Zero K (2016)
Последний роман мастера критики встретили холодно (при том, что речь в книге идет о криогенной заморозке, и именно к ней отсылает нас название, которое означает абсолютный ноль по Кельвину; действие, кстати, происходит не где-нибудь, а near Chelyabinsk), реакция на книгу сразу после выхода была такой же, как в свое время на «Космополис»: что это было?
Реакцию читателей легко понять, ведь Zero K, как и «Космополис», вовсе не роман, а скорее философское эссе о влиянии технического прогресса на повседневную жизнь. Сюжет здесь статичный и необязательный: главный герой шатается по криогенной лаборатории (и еще чуть-чуть едет в такси ближе к концу) и ждет, когда его смертельно больную мачеху введут в состояние анабиоза, чтобы спустя энное количество лет, когда лекарство от болезни будет найдено, разморозить ее, вернуть к жизни и вылечить.
Смерть – физическая и символическая – была сквозным мотивом во всех романах американца, начиная, наверно, с «Белого шума». Но в Zero K эта тема получает новый виток – прогресс дает людям реальную возможность не только значительно отсрочить, но и (допустим) победить смерть: и именно вокруг этой научно-фантастической, почти герберт-уэллсовской фабулы Делилло и выстраивает новый роман.
Что, если смерть – ключевой элемент в формуле, определяющей ценность жизни? И что случится, если этот элемент изъять? Что будет с обществом, для которого смерть перестанет быть неизбежным концом, но превратится лишь в культурный артефакт, станет вопросом выбора? О чем будут писать поэты? Что случится с историей, с деньгами, с религией? Станет ли победа над смертью одновременно победой над войнами? Или же все будет наоборот – и стремление смертности к нулю даст новый виток развитию технологий убийства?
Сейчас эти вопросы звучат как фантастические допущения – синопсис романа-антиутопии, – но этим ведь всегда и славился Делилло: может так случиться, что через 20–30 лет читатели откроют Zero K и скажут то же, что до этого говорили о «Мао II» и «Космополисе»: эй, а ведь он уже тогда все знал.
Культура и трагедия: 11 сентября, Беслан и «Норд-Ост»
Для начала две истории.
Первая: в 1978 году по немецкому телевидению показали сериал «Холокост» с Мэрил Стрип в главной роли. Речь в нем, как несложно догадаться из названия, шла о жизни одной вымышленной еврейской семьи. Казалось бы – ничего особенного. Война закончилась 33 года назад, Нюрнбергский процесс уже состоялся, был процесс над Эйхманом в Иерусалиме, который тоже освещался в СМИ, все о нем знали. Но ни один из этих судов не вызвал такого сильного резонанса.
А сериал вызвал. Его посмотрели 20 миллионов человек, треть населения Германии, телеканал завалили письмами, большая часть из которых – это письма с благодарностью. Люди писали, что эта история о вымышленных людях заставила их переосмыслить свое прошлое.
После этого в 80-е Германия вступила в состояние, скажем так, философской и политической турбулентности. Стало ясно, что проблема не изжита, что все еще существует запрос на попытки осмыслить эту трагедию. Немецкие публичные интеллектуалы и политики вспомнили о холокосте, и разгорелись новые споры о том, что именно эта трагедия говорит о немецком народе. Оказалось, что даже спустя тридцать три года после войны люди так и не смогли толком выработать контекст, понять, как лучше всего относиться к тому, что произошло.
В это, наверно, сложно поверить, но это факт: телесериал с Мэрил Стрип оказался более эффективным инструментом проработки коллективной травмы, чем все судебные процессы, документальные фильмы, философские, исторические книги и мемуары вместе взятые.
История номер два: в 2000 году американский историк с польскими корнями по имени Ян Гросс опубликовал книгу под названием «Соседи», в которой рассказал о событиях в польском городке Едвабне. В 1941 году там была уничтожена еврейская община. Тысяча шестьсот человек. Их заперли в сарае и сожгли заживо.
И до 2000 года официальная – государственная – версия гласила, что это сделали нацисты.
Ян Гросс провел расследование и выяснил, что на самом деле это дело рук поляков. То есть польская часть городка истребила еврейскую и свалила все на немцев, и следующие пятьдесят с лишним лет они просто жили так, словно ничего особенного не произошло.
После выхода «Соседей» разразился страшный скандал. Вплоть до того, что посол Польши в Германии направил ноту протеста журналу, опубликовавшему интервью с Гроссом. В итоге, когда стало ясно, что замолчать, замылить ситуацию не получится, польский Институт народной памяти со скрипом, но все же признал версию Гросса. С оговоркой, что числа, мол, завышены, да и то – во всем немцы-подстрекатели виноваты, а мы, поляки, хорошие и на такое вообще неспособны.
На этом в нулевые вроде бы все затихло. Но – в 2012-м режиссер Владислав Пасиковский снимает по книге фильм «Колоски» (другое название «Последствия»). И-и-и – цикл повторяется. Скандалы, народ недоволен, фильм требуют запретить, исполнитель главной роли становится чуть ли не персоной нон-грата.
Вот вам две истории о том, как искусство – в данном случае в виде сериала, книги и фильма – заставило народ пережить свою историю заново. Или, скажем так, переболеть историей.
Запомните их, пожалуйста. Они нам пригодятся в конце.
Вообще, сразу надо было сказать, что это будет непростой текст – и для меня, и для вас, – не только из-за темы, но и из-за фактов, которые я буду поднимать.
Поэтому давайте сразу договоримся: я не полиция скорби, я не занимаюсь измерением и сравнением человеческих страданий, моя цель – рассказать о механизме взаимодействия трагедии и художника. На примере нескольких национальных трагедий я хотел бы показать, как важно для культуры работать с трагедиями и – главное – делать это быстро. Потому что, как показывает опыт, если какую-то травму не встроить в контекст сразу, не проработать, то позже, спустя тридцать-сорок лет, она все равно настигнет вас и будет беспокоить, как неправильно сросшаяся кость.
Вот несколько примеров того, как писатели в США работают с болезненными для страны темами.
Дон Делилло однажды признался в интервью, что его писательская карьера началась с одной из самых больших трагедий истории США, а именно – с убийства президента Кеннеди. Я знаю, для нас, особенно с такой временной дистанции, это звучит немного странно – сам Делилло называл это убийство «семью секундами, сломавшими хребет Америки», – но весть об убийстве так сильно его перепахала, что он бросил работу в рекламном агентстве и решил стать писателем.
Позже, в 1988-м, он даже написал «Весы» – роман, целиком посвященный заговору вокруг убийства Кеннеди, где попытался деконструировать образ убийцы, Ли Харви Освальда, и понять его.
«Я узнал, что Ли Харви Освальд жил в Бронксе, недалеко от дома моей семьи, в 1953-м. Мне было 16, ему – 13. Мы не были знакомы, но я был поражен, когда узнал об этой связи <…> Мне кажется, ни один из моих романов не мог бы быть написан до убийства Кеннеди».
Судьба Ли Харви Освальда в итоге и легла в основу сюжета, но не в основу книги в целом.
Всего в романе три истории: первая – собственно, жизнь Освальда с самого детства, его путь от рождения до трех выстрелов из винтовки, до пресловутых «семь секунд, сломавших хребет Америки»; вторая – история о заговоре цээрушников, задумавших устроить небольшой переполох во власти, сфабриковать покушение на Кеннеди («мы не убьем его, мы промахнемся») с целью еще сильнее обострить отношения с Кастро и получить карт-бланш на вторжение в Кубу. И, наконец, третий – самый важный – сюжет: история Николаса Брэнча, архивиста, который собирает информацию о покушении на Кеннеди и то и дело натыкается на странные несоответствия и белые пятна в архиве. Например, узнает, что все люди, так или иначе связанные с Освальдом, умерли не своей смертью и при очень таинственных обстоятельствах (один повесился на колготках, другой вроде как застрелился, но при этом успел после выстрела положить пистолет на стол; и еще много таких необычных смертей).
Все три сюжета Делилло раскрывает одновременно, тасуя, перемешивая главы так, чтобы они перекликались, нагнетая обстановку. И хотя сегодня на теме убийства Кеннеди не оттоптался разве что ленивый (даже Стивен Кинг мимо не прошел), роман «Весы» все равно выделяется на общем фоне, ведь в отличие от прочих авторов теории заговоров интересны Делилло не как материал для сюжета, но как объект для исследования.
У книги множество слоев, но самых важных – три. Первый – бытовой: биография Освальда, его труды и дни, а также повседневная рутина остальных персонажей; второй слой – путеводитель по конспирологии, заговоры, их механика и прочее; и третий – главный: попытка автора понять и сформулировать природу отношений между фактами и домыслами. Именно этот метаслой ставит «Весы» в один ряд с самыми важными образцами американского/английского постмодернизма. «Факты одиноки», – пишет Делилло. И чем дальше они от нас, тем меньше права у них называться фактами.
В итоге ближе к концу читатель поймет: «Весы» – это вовсе не роман о покушении на Кеннеди; собственно, покушение здесь – сюжетная рамка, не более; на самом деле книга эта – попытка ответить на вопрос: существуют ли факты на самом деле? Или же факт – это просто сферический домысел в вакууме?
В книге есть впечатляющий эпизод: архивист Николас Брэнч копается в сотнях томов дела об убийстве президента и вдруг начинает сомневаться в том, что во всей этой горе пыльной информации есть хоть один факт. А если и есть – он давно и надежно похоронен под тоннами домыслов и интерпретаций.
Это ужасно интересная и важная для постмодернизма книга. И если после нее вы прочтете другой роман Делилло, «Падающий», опубликованный в 2006 году, вы увидите этот контраст – как сильно отличается эмоциональный накал в тексте, написанном спустя двадцать пять лет после трагедии, от текста, написанного тем же человеком – спустя пять лет после трагедии.
Если «Весы» – это книга, написанная «умом», холодный аналитический эксперимент, то «Падающий» – это книга, целиком написанная «сердцем», на эмоциях и об эмоциях.
Вообще утро 11 сентября 2001 года стало переломным для американской культуры. Еще в 90-х, например, режиссер Роланд Эммерих в фильме «День независимости» (1996)[17] успешно развлекал зрителей взрывами – кино даже продвигали именно так: показывали в трейлерах взрывающиеся Белый дом и Эмпайр-стейт-билдинг. Американцы (да и остальной мир) смотрели на все это с огромным удовольствием.
Когда же башни-близнецы рухнули, все изменилось, и нулевые Голливуд встречал уже с предельно серьезным выражением лица – сгустившаяся паранойя давила на культуру: в «Войне миров» (2005), например, никто уже не упражнялся в остроумии на тему «крутые парни не смотрят на взрыв», у Спилберга, в отличие от Эммериха, каждое рухнувшее здание было трагедией, а рядовые американцы выглядели жалкими и запуганными – героев не было, были только жертвы.
Немецкий философ Теодор Адорно говорил: «Писать стихи после Освенцима – это варварство» (чаще всего эту фразу произносят в виде вопроса: «Как можно писать стихи после Освенцима?»[18]). После падения башен-близнецов американская культура столкнулась с похожей проблемой – она пережила перезагрузку. Как писать/снимать после 11 сентября? Привычные приемы постмодерна – маскарад, сарказм, цинизм, пародия – в начале нулевых резко упали в цене[19]. И маятник качнулся в обратную сторону – к сентиментальности; возникла в некотором роде фиксация на теме уязвимости и изживания психической травмы. И чуть позже – на теме мести. Культуре нужен был новый, адекватный духу времени язык: «In the desperate search for meaning in everyday life after 9/11» («В отчаянном поиске смысла в повседневной жизни после 11 сентября» – слова журналиста издания The Observer в статье 2010 года о романе Лорри Мур «Ворота на лестнице»).
«Падающий» стал одним из первых серьезных литературных высказываний о трагедии. Делилло мог взять эту катастрофу, собрать факты и домыслы, смешать их и превратить в захватывающий метатриллер, как когда-то в «Весах», но в «Падающем» он поступает иначе – пишет вещь тихую, камерную, сочиняет рассказ о комплексе выжившего, о психической травме, которую каждый американец – и особенно житель Нью-Йорка – пытается пережить и осмыслить.
Роман начинается сразу с кульминации – мы видим катастрофу глазами главного героя Кита Нойдекера, оказавшегося возле башен-близнецов в тот момент, когда одна из них уже обрушилась, а вторая вот-вот сложится сама в себя. А дальше – мозаика из воспоминаний нескольких героев: детей, художников, простых рабочих, каждый из которых мысленно возвращается в 11 сентября и пытается извлечь из всего этого хоть какой-то смысл или хотя бы понять, как жить дальше после того, как на твоих глазах люди добровольно выбрасывались из окон небоскребов. Иными словами, «Падающий» – это первый роман Делилло, в котором автор позволил себе бояться, и именно эти сырые, необработанные эмоции проявляются в его тексте и делают его настолько отличным от всего, что написал американец.
* * *
К этому тексту, который потом стал лекцией, я готовился больше двух месяцев. Я понимал, что не могу говорить только об американцах, я просто обязан сравнить наши культуры и показать на контрасте, как по-разному они работают.
Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я стал задавать друзьям и родственникам вопросы:
О чем вам говорит слово «Беслан»? А «Норд-Ост»?
И хотя все, разумеется, слышали об этих трагедиях, воспоминания о них были довольно фрагментарны и неточны. Главное, что меня поразило, – это неспособность респондентов ответить на, казалось бы, простые вопросы. Многие из них путались в годах и в датах, большинство не помнило абсолютно никаких подробностей, кроме того, что «это были теракты в начале нулевых», «там было много жертв» и «это по телику показывали».
Я знал, что у русских проблемы с памятью, но я и не подозревал, что все настолько плохо. Эти события – трагические, страшные – настолько не отложились в памяти людей, что мои вопросы иногда просто ставили их в тупик. И мне пришлось самому рассказывать им подробности, что вот, мол, 1 сентября 2004 года в Беслане террористы взяли в заложники целую школу, 1128 заложников. Осада продолжалась 4 дня, все это время заложники голодали и мучились от жажды. В результате перестрелки погибли 314 заложников, из них 186 детей. Страшные числа.
Что меня больше всего поразило, когда я стал копать в эту сторону, – я узнал, что самый большой и подробный текст о Беслане написал не русский писатель, а американец, корреспондент The New York Times Кристофер Чиверс – по заказу американского же Esquire.
Вот так удивительно странно работают две культуры – США и России. Когда какое-нибудь страшное событие происходит в США, культура начинает мгновенно это событие перерабатывать, наносить на карту истории, встраивать в контекст. Вряд ли кто-то из вас помнит, но, например, 15 апреля 2013 года в Бостоне произошел теракт. Это была очень резонансная история, потому что устроили его чеченцы. Произошло два взрыва, погибло 3 человека, пострадало около 280.
В 2016-м в США уже сняли фильм об этом марафоне. Называется «День патриота», и главную роль в нем играет Марк Уолберг.
* * *
Когда у меня был готов черновик, я собрал, скажем так, небольшую фокус-группу, нескольких друзей, и тезисно пересказал им все темы, которые собираюсь затронуть на лекции, – я репетировал и смотрел, как они реагируют.
И это тоже было неприятным открытием, потому что когда я рассказал про сериал «Холокост», который по сути перепрограммировал Германию, люди сказали: вау, вот это история, класс. Потом я перешел к истории про Едвабне и Яна Гросса, и люди тоже реагировали на это одинаково – они были возмущены, на их лицах благородное негодование; потом я рассказал им об 11 сентября, о Доне Делилло, и эти истории уже не вызвали такого энтузиазма и удивления, и очень легко объяснить почему.
Об 11 сентября написано, снято и спето так много, что эта трагедия уже стала частью культуры, не только американской, но и мировой. Известны все имена, все возможные данные находятся в открытом доступе. Есть огромные статьи о людях, которые погибли там. Есть книги, есть с десяток фильмов.
А потом я перехожу к последней части лекции. И начинаю рассказывать про Беслан. На этом месте один мой друг, который все это слушает, чуть-чуть меняется в лице – по нескольким причинам: во-первых, он ничего об этом не знает, не знает даже, когда это было, многие из тех, кого я опрашивал, даже не могут вспомнить дату, хотя, казалось бы, тут интуитивно можно угадать – в какой день удобней всего захватывать школу?
Рассказывая о Беслане, я начинаю вдаваться в страшные подробности: о том, что мужчин почти сразу начали расстреливать, и для этого их отводили в кабинет литературы и стреляли в них под портретом Маяковского. Примерно на этом месте некоторые из моих друзей начинали ерзать в креслах и перебивали меня: одна моя подруга сказала, что это звучит слишком нереалистично и литературно – расстреливать людей под портретом Маяковского.
Никто не подвергал сомнению мои истории о сериале «Холокост» с Мэрил Стрип, никто не подвергал сомнению мою историю о Яне Гроссе, ни у кого даже мысли не возникало перебить меня, когда я рассказывал об 11 сентября.
Но как только я начал рассказывать об ужасах Беслана, люди реагировали на это болезненно. Точно так же поляки реагировали на книгу Яна Гросса «Соседи», они не могли это принять, они начинали искать подвох в моих словах.
Почему такое происходит?
Потому что эта трагедия не проработана нашей культурой. Она замылена. Никто в России, кроме специалистов либо журналистов, никто ничего практически не знает ни о Беслане, ни о «Норд-Осте». Никто не знает, что за мюзикл «Норд-Ост», по какой книге его поставили.
Две эти трагедии – это колоссальный культурный материал, и он лежит нетронутый уже пятнадцать лет.
Сколько фильмов снято об этом? Ни одного.
Сколько книг написано? Ни одной. Или скажем так: ни одной хорошей.
Сколько людей погибло? Почти никто не помнит. Хотя информация есть в свободном доступе.
Если отвлеченно взглянуть на две культуры – американскую и русскую – то мы увидим такую закономерность. Американская культура реагирует почти мгновенно, русская реагирует с очень сильной задержкой – в среднем лет двадцать, иногда, очень часто, даже больше – лет пятьдесят. Наша культура начинает тянуться к трагедиям только после того, как сменяется власть.
И это мне кажется очень большой проблемой. Потому что культура питается историями. Культурный ландшафт, он в принципе нужен для того, чтобы осмыслить, упорядочить движение истории.
Почему книжка Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко и запредельно близко» так важна для американской культуры? Она ведь как раз об этом – о человеке, который пытается придать смысл трагедии, пытается убедить себя, что все это было не напрасно, что все это можно как-то искупить.
Мне кажется, в этом еще и гениальность этой книги. Ее главный герой Оскар Шелл находит ключ. Он знает, что этот ключ принадлежит его отцу, погибшему отцу, – и у него появляется миссия, цель. Он убеждает себя в том, что если он найдет замок или дверь, к которым этот ключ подойдет, то он найдет там ответы на свои вопросы.