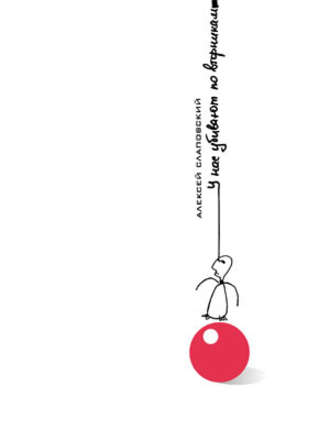
Алексей Слаповский
У нас убивают по вторникам (сборник)
У нас убивают по вторникам
Произошло это в году не то 2011-м, не то в 2021-м.
Неважно.
Главное – это было.
То есть я, конечно, подстрахуюсь и заявлю, что все персонажи и события вымышленные, вот прямо сейчас и заявляю: все персонажи и события вымышленные, ничего этого на самом деле не было, но мы-то с вами знаем – было, да еще как.
Или в газетах очень правильно пишут: «мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов». На всякий случай.
Поэтому дополнительно оговариваюсь: мнение автора может не совпадать с его точкой зрения. И будущих продюсеров, режиссера и других членов творческой группы тоже попрошу обозначить в титрах: дескать, если мы так думаем, то это не значит, что мы так считаем.
Но хватит предисловий.
Итак, представьте: идет заседание то ли министерства, то ли ведомства, то ли вообще правительства, это детали, существенность в том, что на данном заседании обсуждаются важные вопросы государственного масштаба.
Впрочем, пока ничего не обсуждается.
Председательствующий Капотин в мертвой тишине, хмурясь, просматривает какой-то доклад.
Чиновники не смеют даже переглядываться, а если и делают это, то украдкой.
Жарко, со всех течет пот.
Секретари и помощники, что сидят на стульях по периметру стен, тоже потеют.
Потеют приглашенные журналисты с блокнотами, камерами и микрофонами.
Люди из обслуживающего персонала, неприметные, в одинаковых костюмах, тоже потеют и переминаются.
Вот один из чиновников глянул на того, кто стоит у двери, умоляюще показал глазами вверх. Тот украдкой достал пульт, нажал на кнопку, чтобы прибавить холода.
Кондиционер зашумел.
Капотин поднимает голову и смотрит сначала на кондиционер, затем на человека с пультом. Тот сразу же убрал звук и, соответственно, холод.
Один из чиновников с ужасом смотрит на коллегу напротив. У того сейчас сорвется с подбородка огромная капля пота, но он не замечает. Чиновник хочет сказать ему, приставляет ладонь ко рту, чтобы шепнуть, но не успевает: капля срывается, падает в стакан с водой. Брызги во все стороны, оглушительный бульк. Чиновники и Капотин смотрят на провинившегося. Тот хватает платок и вытирает лицо.
И опять тишина.
В этой тишине Капотин переворачивает страницу.
Звук такой, какой услышал бы Гулливер в стране гигантов, если бы рядом с ним перевернули страницу книги, размером с футбольное поле.
Наконец Капотин нарушает тишину. Он говорит мягким, но укоризненным голосом.
– Ну что это такое, Деляев? Опять в прошлом месяце взял полтора миллиона из фонда социальной помощи?
Деляев хочет встать, но Капотин делает знак: отвечай сидя.
Тот бормочет:
– В связи с мероприятиями по улучшению работы по улучшению контактов с общественно значимыми организациями…
Капотин морщится:
– Перестань, тут все свои. Опять, что ли, дом строишь?
– Для младшей дочери, – признается, потупясь, Деляев.
– А сколько ей?
– Восемнадцать уже. Тесновато нам стало…
– Где строишь? – интересуется Капотин.
– Ипатовка, двенадцать километров от окружной.
– Знаю, место хорошее, – одобрительно кивает Капотин. – Позови на новоселье. Я слышал, дочка красивая у тебя.
Капотин улыбается, Деляев тоже улыбается.
Но Капотин построжал – и у Деляева тут же стало такое лицо, будто он с детства ни разу не улыбался и даже не знает, как это делается.
– Все равно, имей совесть, Деляев, – продолжает Капотин. – В этом месяце очередь из фонда брать Субботину. Вы уж хоть какой-нибудь порядок соблюдайте. А то ты взял, ему не досталось, он будет в претензии.
– Да я тоже взял, – успокаивает Капотина Субботин.
– И чем ты гордишься?
– Я не горжусь, просто – констатирую факт.
– Нет, ты гордишься, – Капотин начинает сердиться. – Нельзя так, коллеги. Воруете, я знаю, и все знают. Но, во-первых, воруйте все-таки в порядке очередности, во-вторых, не так нагло, в-третьих, надо же иметь эту, как ее…
– Совесть, – подсказывает Переметнов, руководитель отдела по связям со СМИ.
– Спасибо. Вот именно – совесть. Я не призываю ее все время применять и демонстрировать, но, повторяю, иметь ее надо. Вещь не лишняя все-таки. К нам гости приезжают зарубежные… Журналисты вон стоят, как волки, следят, заразы… Чтобы, если попросят ее показать, эту… Опять забыл…
– Совесть.
– Да. Она чтобы была в наличии!
И опять Капотин изучает доклад.
– Ну вот, та же картина. Лучшенко у газовиков десять миллионов отжал, Зимянин в Монако землю купил, Рахманович третью яхту океанскую меняет.
– На свои деньги, – возражает Рахманович.
– Ничего у тебя своего нет – и ты это знаешь! – с ноткой суровости отвечает Капотин. – Или вот – товарищ генерал Пробышев откатил целых двенадцать миллионов у Нижневерховского оборонного завода. Не много?
– Половину для вас, Павел Савлович, – торопится оправдаться товарищ генерал Пробышев.
– А мне оно надо? Ты вот финансиста нашего спроси. Манин, скажи ему – деньги зачем?
Манин застигнут врасплох, не сразу может сообразить.
– Ну… Инвестиции… Вклады… Кредиты… Финансовая система…
– А попроще?
– Деньги нужны… Чтобы все было!
– Вот. Чтобы все было. А у меня и так все есть.
Капотин опять листает доклад и с неудовольствием отбрасывает его.
– Зарвались вы, ребята. Вы как хотите, но что-то надо делать.
– Сажать нас надо, – сокрушенно советует кто-то из чиновников.
– Тогда уж всех. А кто работать будет? – задает Капотин риторический вопрос.
Молчат. Думают.
Заметим, пока они думают, что никакой фантасмагорией тут и не пахнет. Всё похоже на заурядное производственное совещание. И голоса заурядны, и лица, и сами слова. И то, что сейчас предложит товарищ генерал Пробышев, прозвучит вполне буднично: так затурканный прораб в строительном вагончике, чтобы ублажить начальство, спешит выдвинуть деловую идею, доказывающую его если не рвение, то сообразительность.
Он предлагает:
– Убить, может, кого-нибудь?
– А что? Может, и подействует, – соглашается Капотин.
– У вас, силовиков, один разговор – убить, – шипит Манин. – А если тебя убить?
– Меня нельзя.
– Это почему? – удивляется Капотин.
– Да не люблю я этого. Не нравится как-то. Ерунда какая-то – жил, жил и вдруг мертвый. Неприятно.
– Все равно когда-нибудь помрешь, – стращает Лучшенко.
– Но не сейчас же.
– У нас смертная казнь отменена, – напоминает собравшимся юрист Рубак.
– Никто не говорит – казнить, предложение – убить, – как ребенку, разъясняет ему Капотин. – Криминальное, скажем так, убийство. На почве, к примеру, коммерческой деятельности.
– Политическое лучше, – осмеливается возразить товарищ генерал Пробышев.
– Почему?
– У нас давно ни одного приличного политического убийства не было. Уже обвиняют, что мы всю оппозицию уничтожили. Пусть знают, что она еще есть.
– Воя не оберешься. Хотя можно так: убийство будет криминальное, но пусть думают, что на политической почве. Товарищ генерал Пробышев проведет расследование и найдет виновных. А то давненько ты никого не находил.
– Я находил и нахожу! – обижается Пробышев. – Но к ним не подступишься – то депутатская неприкосновенность, то такую взятку дают, что совестно отказываться. А то вообще свои. Рубак вон за год троих человек замочил.
– А я что, для удовольствия их замочил? – возмущается Рубак. – Я для дела! Согласились бы по-хорошему – я бы их пальцем не тронул. Я что, убийца по-вашему?
– Хватит пререкаться! – поднимает руку Капотин. – Суть в чем? Надо кого-нибудь из нас убить, чтобы другим стало хоть чуть-чуть страшнее. И вообще – бардак в этом деле полный. Кто кого хочет, тот того и убивает. Да еще ответственность на себя берут. Обидно даже – в прошлом году мы журналиста Зажигаева убили, а правые либералы приписали это себе. Всё должно быть под контролем, все должны видеть, что у нас сильное государство и без его ведома ничего не происходит. Теперь надо решить – кого.
– Может, проголосуем? – предлагает Переметнов.
– Тайно! – тут же уточняет Манин.
– Не тайно и не явно, – отвергает Капотин. – Лучше жребий кинуть. Я могу, конечно, и сам назначить…
– Жребий! Жребий! Жребий! – тут же раздаются голоса.
Пробышев дает для этого дела свою генеральскую фуражку.
И вот Капотин уже держит в руках фуражку и встряхивает ее.
– Все бумажечки пустые, одна с крестиком, – говорит он. – Моей фамилии нет, потому что я вам отец родной. Или кто-то не согласен?
Молчат. Все согласны.
– Ну? Кто первый? – Капотин подставляет фуражку.
Пауза.
– Чем больше листков, тем меньше вероятность, – решается Манин.
И тянет листок. Разворачивает. Пусто.
Все бросаются тащить, ободренные его словами и примером.
И все взяли свои жребии, и все с радостью рассматривают пустые листки. Но у кого же крестик?
И тут все обращают внимание на Быстрова. Невысокий человек с неприметной внешностью. Он стоит, крепко сжав свою бумажку в кулаке.
– Быстров, покажи! – требует Пробышев.
Но тот в ступоре. Смотрит перед собой остекленевшими глазами.
Пробышев пытается разжать его кулак.
– Маленький, а жилистый! – удивляется он.
Пробышеву помогают.
Быстров не сопротивляется, но и не помогает. Он даже сам с удивлением смотрит на свой кулак, будто на посторонний: что это с ним?
Наконец кулак разжат и бумажка, как и ожидалось, оказывается с крестиком.
Крестик одновременно и страшный, и какой-то кривоватый, школьнический.
– Вариант неплохой, – говорит Капотин. – Ты, Быстров, у нас сидишь на культуре, а на культуру кого угодно можно посадить, ума много не надо. Но фигура все-таки заметная.
– За что?.. – шепчет Быстров пересохшими губами. И шмыгает носом – у него насморк.
– Не понял? – вслушивается Капотин.
– За что? Я ничего не сделал! Я даже не ворую!
– Правда, что ли? – не верит Капотин. – А почему?
– Нечего украсть, Павел Савлович! Нет доступа ни к каким финансам!
Капотин обращается к Пробышеву:
– Твоя недоработка, мог бы чего-нибудь ему подсунуть.
– Компромат найдем, если надо.
– Значит, мы удачно на тебя попали, – объясняет Капотин Быстрову. – А то ерунда получается: у нас каждый в чем-то замешан, это гарантирует взаимную безопасность. И рад бы кого-нибудь сдать, но знаешь, что и он тебя сдать может. А ты один у нас получился в белом фраке. Нехорошо.
– Я исправлюсь! – обещает Быстров. – Сегодня же возьму какую-нибудь взятку… За что-нибудь… Или деньги растрачу государственные.
– Извини, поздно. Да ты не волнуйся, мы о твоей семье позаботимся. А тебя, если хочешь, на Ваганьковском похороним. Может, ты вообще против? То есть против нас? Против меня лично? Скажи, не бойся.
– Я не против…
– Тогда о чем говорить? Журналисты, включайте камеры!
Тем же вечером диктор в телевизоре сообщает деловитым, заурядным голосом после перечисления важных международных и внутренних событий:
– На сегодняшнем заседании было принято решение убить руководителя департаменты культуры Вадима Михайловича Быстрова. Заявлено при этом, что убийство будет совершено криминальным образом на почве коммерческой деятельности, которой у Быстрова нет, но по политическим мотивам. Осуществление и расследование убийства берет на себя ведомство товарища генерала Пробышева, но оно не будет иметь к этому никакого отношения.
На экране возникает Пробышев. Он вещает:
– Хотя мы тут ни при чем, но могу сказать, что в любом случае мы исходим не из соображений необходимости, а из принципа целесообразности…
Программу вечерних новостей смотрит вся страна, и везде реагируют по-разному.
Людям посторонним это, конечно, совсем неинтересно.
Хотя и они иногда высказывают мнение.
Вот где-то в глубинке сидят два соседа-приятеля, выпивают. Один уронил кружок колбасы под стол и, поднимая его, не расслышал:
– Кого убить хотят?
– Быстрова.
– А это кто?
– Черт его знает. Типа министр.
– Давно пора их все поубивать. Грабят народ. Твое здоровье.
– Твое здоровье.
Выпили. Оба одновременно икнули. Рассмеялись этому приятному совпадению.
Или: лежит в деревенском доме бабушка ста с лишним лет, смотрит в телевизор, почти ничего уже не понимая, но непроизвольно бормочет:
– И примкнувший к ним…
– Чего ты там бормочешь? – кричит ее глухая восьмидесятилетняя дочка.
– Заплясали, загудели провода, мы такого не видали никогда, – отвечает мать.
Шестидесятилетняя внучка, тоже тугоухая, кричит:
– Ничего не понимаете, старые!
– А ты чего поняла? – обижается дочь.
– Все!
– А что все-то?
Внучка молчит, не сознается. Вернее, не хочет признать, что она сама ничего не поняла.
Но то люди дальние, а каково близким?
Сейчас узнаем, каково близким.
Восемнадцатилетняя дочь Быстрова Настя, услышав новость, кричит матери, которая на кухне:
– Мам, иди сюда, про папу говорят! Да быстрее!
– А что? – входит мать.
– Папу убить решили.
Мать ахает, но тут же говорит:
– Предупреждала я его: не лезь ты на это место! Славы человеку захотелось!
А вот младший брат Быстрова, Владимир, и его жена Надежда. Жена смотрит телевизор, а Владимир сидит в кресле под торшером возле книжных полок во всю стену. Читает.
– Ты слышал? – спрашивает Надежда.
– Выкину я этот зомбоящик. Добил он остатки интеллигенции, – морщится Быстров-младший.
– Брата твоего убить хотят!
– Серьезно? Надо же… Нет, но с ним-то, наверно, согласовали?
Владимир пожимает плечами, он растерян. Он не знает, как к этому отнестись.
А в телевизоре сам виновник, если так можно выразиться, торжества.
Он говорит журналистам:
– Конечно, для меня это неприятное решение. Слишком много начатых дел, хотелось бы их продолжить. С другой стороны, я понимаю, что нужны свежие кадры, новые идеи…
Едет Быстров домой, хмуро смотрит в окно. Предчувствует: будет дома неприятный разговор.
Так и есть: жена Светлана кормит его ужином и сокрушается:
– Нет, но как ты мог согласиться?
– А что я мог сделать? Ну не соглашусь, все равно убьют. Уж лучше думать, что я сам, добровольно. А то получится – как баран на бойне.
– Да так и получилось уже!
Быстров надкусывает котлету, и лицо его вдруг становится очень грустным, как будто он только сейчас по-настоящему огорчился.
– Что, пересолила? – тревожится Светлана.
– Наоборот.
– Ну, Вадик, на тебя сроду не угодишь!
– Да ничего, я сам…
Быстров сыплет на котлету соль из солонки. У солонки отлетает крышка, соль высыпается.
– Плохая примета! – пугается Светлана.
В кухню входит Настя. Обращается к отцу:
– Привет, машину дашь на пару часов?
– А кто мне крыло вчера помял?
– Купили бы мне свою собственную, я бы мяла что хотела! – оправдывается Настя, не чувствуя за собой вины. – У всех уже машины есть, одна я как золушка.
– Ничего, – утешает отец. – Скоро моя машина твоей станет. Навсегда.
– Правда? – радуется Настя.
Светлана одергивает ее:
– Ты разве не знаешь, что нас ждет?
– Почему нас. Это его ждет. А он согласие дал, я правильно поняла?
Быстров вяло кивает.
– Так я возьму машину?
– Бери.
Настя, счастливая, исчезает.
– Так нельзя, – говорит Светлана. – Надо как-то бороться!
– Как?
– Ну не знаю… В суд подать.
– Прецедента не было.
– А ты создай!
– Свет, помолчи, а? И так тошно.
Светлана глянула на часы.
– Ой, что же это я? Там же…
Спешит в комнату, включает телевизор. Слышны звуки какого-то веселого шоу.
Быстров встает, шарит по кухонным ящикам. Находит начатую пачку сигарет. Закуривает.
Светлана кричит:
– Вадик, опять закурил? Забыл, что тебе врач сказал? У тебя легкие!
– Скоро не будет, – негромко говорит Быстров. – Ни легких, ни тяжелых.
Поскольку событие хоть и не из ряда вон, но все-таки заметное, как говорят журналисты, информационный повод, Быстрова приглашают на популярную передачу «Глаз народа». Он как человек государственный, служивый, не чувствует себя вправе отказаться.
Сидит в студии, в центре, на свету и на виду, вокруг, как на небольших футбольных трибунах, зрители.
Выходит бойкий ведущий Соломахов, которого встречают аплодисментами.
Он объявляет:
– Итак, начинаем нашу программу «Глаз народа!». Итак, сегодняшняя тема – «Казнить нельзя помиловать». Итак, вот наши сегодняшние гости! – широким жестом Соломахов указывает на троих героев передачи: всхлипывающую женщину лет тридцати пяти, угрюмого мужчину лет сорока кавказской настороженной внешности и скромно утонувшего в глубоком кресле Быстрова.
– Итак, перед нами три человека, объединенных общей проблемой – их собираются убить! – сообщает Соломахов. – Послушаем сначала их. Екатерина Лебедева, что случилось? – подсаживается он к женщине.
– Сын убить хочет, – плачет Лебедева.
– За что?
– Ни за что!
Соломахов вскакивает и голосом, предвещающим сюрприз, объявляет:
– Итак, Екатерина Лебедева, которую хочет убить сын. Вася, сын Екатерины, присутствует в нашей студии!
Под овации (таков формат передачи: всех встречать аплодисментами) выходит Вася, мальчик лет четырнадцати, длинный, весь какой-то членистоногий. Он идет к диванчику, на котором сидит мать. Она отодвигается.
– Не бойсь, дура, не трону, – улыбается Вася.
– Итак, Вася, скажи, – просит ведущий, – действительно ли ты хочешь убить свою маму?
– А чё, прямо на всю страну показывают? – улыбается Вася, крутя головой.
– Да, на всю страну. Так хочешь ли ты убить свою маму?
– Ну, короче, да.
– Что да?
– А вы бы не убили? – гнусит Вася, впадая в раздраженный подростковый тон. – Телефон мне нормальный купить не хочет, за компьютером сидеть не разрешает, вчера с пацанами встретиться не дала, а они меня ждали!
– Итак, ты хочешь убить свою мать за то, что она ограничивает твою свободу? – подсказывает Соломахов.
– Нуда. И вообще, ноет все время.
– Но она же твоя мама, Вася. Она тебя родила! – с болью в голосе восклицает ведущий.
– А я просил?
Соломахов, прекратив диалог, обращается к студии:
– Итак, перед нами мама и ее сын, который хочет ее убить. Какие будут мнения?
Микрофон берет женщина с острым лицом и сердитыми глазами:
– Я как детский и подростковый психолог, кстати, моя новая книга уже в продаже, должна сказать, что мы относимся к детям, как к своей собственности! И вот вам результат. Мальчик не столько виноват, сколько несчастен.
Ее перебивает растрепанная и красная дама:
– Какая она ни есть, а она мать, и он должен материной воли слушаться! Это что же будет, если каждую мать будут убивать? Я вот сама мать и как мать скажу, что любая мать скажет то же самое: мать – это святое!
Ей аплодируют, атмосфера накаляется, но тут, конечно, рекламная пауза.
Зрители у телевизора смотрят увлекательные сюжеты про майонезы и стиральные порошки, а Соломахов сидит в углу, изможденный: это его четвертая запись за сегодняшний день. Тем временем редактор программы через громкоговоритель обращается к публике, призывая ее аплодировать и выступать активнее.
– Не бойтесь прямой полемики! Если кто-то захочет подойти ближе друг к другу, не стесняйтесь, у нас это приветствуется!
Пауза кончилась.
– Продолжаем! – объявляет редактор.
Соломахов, только что казавшийся тряпичной куклой, вздернулся, словно его потянул за нитки невидимый кукловод. Усталости как ни бывало, он свеж, бодр, активен, он весь в сути проблемы.
– Итак, вторая история: перед нами Курбан Шешбешевич Аскариди, бизнесмен. Скажите, Курбан, кто и за что хочет вас убить?
– Вот он хочет убить, – настороженный кавказец указывает на вольготно рассевшегося в кресле человека с широкими плечами и объемистым горделивым животом.
– За что? – удивляется Соломахов.
– Я овощ продаю, фрукт. Он подходит: дай денег. Я – за что? Ни за что, хочу. Я говорю: нет, не могу. Он говорит: тогда убью тебя. Откуда я могу ему денег дать? Налоговой дай, санпидстансыи дай, милисыи дай, спесслужбам дай. Вас много, Курбан один. А мне еще за транспорт платить, грузчик платить, склад платить…
Ведущий перебивает:
– Понятно, понятно! Послушаем теперь человека по кличке Бодя. Член охотнорядской преступной группировки, находится в федеральном розыске. Спасибо, Бодя, что нашли время прийти к нам!
Публика тоже благодарит Бодю аплодисментами.
– Так за что вы берете деньги у Курбана и за что хотите его убить? – интересуется ведущий.
– Не вопрос, – откликается Бодя. – У него деньги есть, у нас нет. А нам надо. Общак держать, пахану новый «мерседес» купить, да мало ли. Мы люди или нет? А он уперся, как баран. Да еще скрывается, гад. Хорошо хоть, что сюда пришел. Я тебе говорил, глаза вырву? – Бодя встает и вразвалку подходит к Курбану. – Я тебе говорил, башку снесу?
Хороший момент для рекламной паузы – и она наступает.
Что там было в студии, зрители не видят, они после рекламы обнаруживают только результат: в студии теперь нет ни Курбана, ни Боди, только красное пятно на кресле и лужа крови на полу.
Приходит черед Быстрова. Соломахов гонит, предвкушая конец съемки:
– Итак, последняя наша история – история Вадима Михайловича Быстрова. Скажите, Вадим Михайлович, как вы относитесь к тому, что вас хотят убить?
Быстров сидел не просто так. Он думал. Он чувствовал себя не просто человеком, выставленным здесь для удовлетворения праздного любопытства, он понимал, что обязан выглядеть более ответственно и разумно – как представитель власти, как уважающий себя мужчина. Как интеллигент, в конце концов!
И он говорит:
– Тут все обвиняли. За что, почему… А я считаю, надо начать с себя. Потому что…
– Спасибо, время нашей передачи истекло! – объявляет ведущий. – Верный вывод сделал Вадим Михайлович: когда вас кто-то будет убивать, надо не кричать «караул» и не бежать в милицию, как делают некоторые излишне впечатлительные люди, надо сначала задать себе вопрос: а правильно ли я живу? Может, меня убивают за дело? И, возможно, тогда человек сам поставит запятую после первого слова в изречении, которое стало темой нашей передачи.
На табло, где большие буквы УБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ, появляется запятая после слова «убить».
– Берегите себя, желаю всем здоровья и счастья, до свидания! Первый независимый канал продолжает свои программы, не переключайтесь!
В ведомстве Пробышева идет обсуждение мероприятия. Среди гладких и хорошо одетых сотрудников сидит нарочитый тип в тренировочном костюме, со шрамом на щеке, небритый.
– Ну и рожа, – недоволен Пробышев. – Другого не могли найти?
– Да то наш, это Свистунов из отдела заказных убийств.
– Валера, ты? – поражается Пробышев.
– Так точно, товарищ генерал! – усмехается нарочитый тип.
– Надо же. Хорошо у нас визажисты работают. Ну, какой план?
– Очень просто, – докладывает Валера. – Охраны у Быстрова нет. По утрам он бегает.
– Куда?
– Никуда. Для здоровья. Он возле парка живет, там и бегает. Я тоже как бы буду бегать. Поравняемся, я шмаляю в него, потом контрольный в голову. Все.
– Неплохо. Красиво, как минимум. Парк, птички, утро. Эстетический момент – это тоже важно. Но посоветоваться все-таки не мешает.






