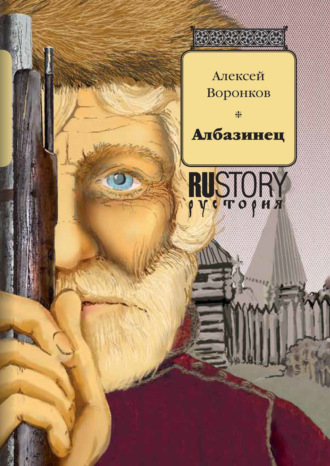
Алексей Воронков
Албазинец
2
Предупредив Саньку, что придет к ней ночевать, Федор вернулся домой и стал готовиться к походу. Первым делом привел в порядок оружие. Поточил клинок, прочистил шомполом ствол фузеи, зарядил два пистолета, после чего отсыпал в железный коробок из запаса пороху, налил свинцовых пуль и уже хотел было заняться конской сбруей, когда к нему подлетели его сыновья.
– Тять, возьми меня с собой! – заканючил Петр.
– И меня тять, и меня, – следом стал напрашиваться и младший Тимоха.
Наверное, это им Наталья донесла, что уезжаю, ухмыльнулся Федор.
– Рано вам! – произнес он. – В дороге всякое может приключиться. Разбойных-то людей вон сколь развелось. А еще эти богдойцы проклятые. Так и рыщут, так и рыщут вокруг. То заимку где подожгут, то людей наших в полон уведут. А бывает, что и засаду устроят. Чуть зазевался – и поминай, как звали. Нет! Вот подрастете чуток – тогда и поговорим. А пока сидите дома и тюрю зобайте[38]. А нет – ступайте заплот возле дома городить. Аль не бажите? Но это ж покаче будет, чем пасть от руки басурмана.
А Тимоха ему:
– Не хочу заплот городить – хочу богдойцам головы рубить.
Федор фыркнул.
– Вот щас как бляблу[39] отвешу – будешь знать! – бросил он в сердцах. – Ишь, герой нашелся.
Заметив, что глаза младшего сынка покрылись мокротой, он сказал примирительно:
– Ладно, не веньгай давай. Если хочешь врагам головы рубить, то вначале нужно научиться этому ремеслу. А то ведь и свою можно сложить.
Тут на выручку брату пришел Петр.
– Да что ты, тять! Ведь мы не хуже любого казака сабелькой-то махать умеем! – похвастался он. – Почитай, каждый день с дружками на пустыре рубимся.
– А где ж вы сабли-то взяли? – не понял Федор.
– Да у нас не настоящие – деревянные, – заморгал глазами Тимоха.
Федор вздохнул.
– Деревянные!.. – передразнил он его. – Это, сынки мои, не то. На деревянных взаправду биться не будешь. Да и коней у вас покуда нет.
– У соседей возьмем! – тут же нашелся Петр. – А сабли… Ну одна у тебя лишняя имеется, а другую мы уж как-нибудь отыщем.
Федор и не знал, как ему быть. До встречи с Санькой оставалась еще уйма времени. Вон и солнце говорит о том, что день только начинается. Однако ему нужно еще в Монастырской слободе побывать у бронного мастера Платона Кушакова. Тот обещал куяк ему залатать. А то в недавней стычке с богдойцами старшине его помяли маленько. Ну и заодно уж пусть кузнец и на подковы Киргиза глянет да на чалдарь. Дорога дальняя – все нужно предусмотреть.
– А ну пошли на задний двор, – неожиданно сказал Федор сыновьям и, сняв со стены обе хранившиеся в доме сабли, пошел к двери.
Те, забыв про все на свете, побежали следом. Наталья, слышавшая весь этот разговор, переполошилась. И что этому извергу в голову взбрело? (Это она о Федоре). Шел бы к своей узкоглазой красавице – почто в нелюбом доме трется? Аришка, заметив тревогу в глазах матери, решила ее успокоить.
– Да не кручинься, маманя, пусть себе побалуются, – сказала. – Чай, не часто тятька на детей своих время находит.
И то верно, решила мать. Только бы у Федора ума хватило не покалечить сыновей.
– Не дай Бог, тебе достанется такой же вот гулена, – вздохнула Наталья, пробуя на соль похлебку, которая у нее варилась в большом чугуне. – Народил детей, а сам в кусты… То он на Дону где-то шлялся, заставляя меня по ночам слезы лить да молить Бога, чтобы с ним ничего не случилась. Ну вернулся – и что? Теперь вот он себе молодую нашел. И кого! Басурманку несчастную…
– Ты не справедлива, маманя, – выкладывая из печи подовый рыбный пирог, сказала Аришка. – Богдойка эта славная. Она даже меня привечать стала. А то вначале все шарахалась – будто бы я прокаженная какая.
Мать с упреком глянула на дочь.
– Вот-вот, все вы против матери…
– Да нет же, мамань, мы любим тебя, а богдойка… Ну не убивать же ее, в самом-то деле! Коль уж Бог так распорядился – пусть будет как есть. Тятенька же не уходит к ней насовсем.
Наталья шмыгнула носом.
– А мне нужна такая жизнь? Вот станешь сама женой – тогда поймешь.
Аришка улыбнулась.
– Нет, мамань, у меня муж будет домовитый и верный.
– Не о Мишке ли Вороне ты говоришь? – спросила мать.
Дочь даже зарделась при этих словах и опустила глаза.
– А любит ли он тебя?
– Ой, мамань, любит! Да как любит! – радостно воскликнула девушка. – Он такой добрый, такой заботливый.
– Ну хорошо, коли так, – ласково взглянула на дочь Наталья. – Пусть хоть тебе в жизни повезет. Только вот… Сама ведь знаешь, какая у казака жизнь. Нынче жив, а завтра…
Она махнула рукой. Дочь горестно вздохнула.
– Знаю, маманя, знаю, Но, может, Боженька смилостивится над нами, может, он не разлучит нас. Ну а коль разлучит – я все равно до конца жизни буду любить моего Мишеньку.
Эти слова растрогали Наталью. Вытерев о передник руки, она обняла дочь и стала нежно гладить ее по русой голове, приговаривая:
– Доченька ты моя ненаглядная, родненькая моя… Ну что ж, вот стукнет тебе шестнадцать годков – пусть жених твой сватов присылает.
3
Опарины жили, старясь не выделяться среди других казаков. А то скажут: напромышлял этот Федька где-то чужого добра – вот и жируют.
Дом себе поставили незатейливый, хотя и не самый последний в округе. Крепкий широкий сруб с терраскою, сенями и покоями – передней, гостиной, спальной и стряпной – так называемым бабьим углом, или прилупом. Слева от дверей – лаз в голобец[40]. Супротив них – большая печь с подом и камином, который в долгие зимние вечера освещал кухню смоляными шишками. Между стеной и печкой – полати, на которых почивали Петр с Тимохой. Вдоль противоположной стены стояли лавки для кухонной утвари. Ближе к переплетенному окну у коника[41] – большой обеденный стол с тяжелой столешницей, две скамьи и сундук. Между кутью[42] и горницей – заборка[43].
Справа от дверей – куть с сельником, в котором стоят жернова, рядом – выдолбленная из целого куска дерева высокая ступица; тут же решето и сито. А зимой еще и кадушка с водой.
Горенка под стать всему небольшая с одним окошком. Поначалу оно было затянуто бычьим пузырем, однако позже Федор зашил его слюдой, которую привез из Нерчинска. В красном углу – божничка с иконками, кодиленка, ладан, молитвенники, восковые церковные свечи и поминальные просвири. Под божницей – небольшой столик-трехножка, на котором всегда лежало что-то церковное. В Пасху, к примеру, куличи и крашеные яйца, в вербное воскресенье – распустившаяся верба в горшке с водой. Но чаще всего – принесенные из храма свечи и ладанница с пахучей смолой.
Здесь же стол для занятия рукоделием, на нем целая гора тряпичных лоскутков, среди которых затерялся берестяной коробок с иглами, наперстками, нитками и пуговицами. Возле стола – два табурета. Против окна на стене – большое овальное зеркало в бронзовом окладе, которое Федор привез из Нерчинска. Под ним широкая скамья, покрытая овчиной шубой, – аришкино спальное место.
Была еще и небольшая светелка, смежная с горницей и отделенная от нее занавеской, где стояла родительская кровать.
Таким же незамысловатым выглядел и опаринский двор, огороженный заплотом из жердей. В нем амбар, стайка для коровы, поветь[44] для Киргиза, небольшой огородик; тут же баня «по черному», сарай, где у хозяина, мечтавшего когда-нибудь заняться пашенным делом, хранились сельхозорудия, конская сбруя, а еще стоял обыкновенный плотничий верстак. В конце огорода – одетый срубом копань[45] с ледяной прозрачной водой.
Вот возле этого колодца Федор и учинил испытание своим сыновьям. Чтобы не путаться в рукавах казацкого чапана[46], он снял его и набросил на колодезный ворот, оставшись в исподней тельнице. Петр же с Тимохой лишь освободили застежи своих косовороток да для удобства закатали штанины порток.
– Ну, кто первый? – протягивая саблю сыновьям, спросил отец.
– Дай, я! – подтянув штаны, выступил вперед Тимоха.
– Ты штаны-то не подтягивай, мотузком[47] их подвяжи – не то свалятся… И носом не шмыгай – не маленький, – беззлобно заметил отец.
Петр снял свою опояску с рубахи и протянул ее брату. Подвязав портки, Тимоха смело взял из рук родителя саблю, вынул ее из ножен и принял боевую стойку.
– Ну, что стоишь, давай наступай! – велел отец.
Тимоха, размахивая клинком, смело полетел вперед и тут же, выронив саблю, упал носом на землю.
– Так нечестно! – закричал парень. – Зачем ты мне, тять, ножку подставил?
– Ты давай не гунди, а дерись! – прикрикнул на него отец. – На ратном поле тебе не на кого будет пенять. Ну же, наступай!
На этот раз Тимоха был осторожен, опасаясь снова попасть впросак. Вместо того, чтобы смело идти вперед, он начал делать какие-то замысловатые движения, и это у него получалось так ловко, что отец был вынужден отступить.
– Ну-ну, давай-давай! – подбадривал Федор сына. – Кистью, кистью больше работай, а то у тебя лезо[48] будто мертвое. Так, недурно! А ну еще…
Тимоха был в ударе. Он снова и снова попытался загнать отца в угол, но в тот самый момент, когда уже готов был праздновать победу, Федор, изловчившись, выбил у него из рук саблю.
– Вот так, браток, нужно воевать! – подхватив ее на лету, усмехнулся Федор. – Ну, еще что ли побалуем?
– Нет, теперь давай я! – сказал Петр.
Он взял из рук отца саблю и начал осторожно на него наступать. В отличие от брата, в его стойке присутствовало что-то звериное. Он не шел на противника грудью, а, пригнувшись к земле, мягко подкрадывался к нему, при этом зорко следя за каждым его движением. Саблю держал жестко, уверенно, но размахивать ею не пытался. Напротив, он будто бы выжидал, когда противник ошибется.
– Ну, давай, наступай, что крадешься, как волк! – рычал на него отец, но Петр его не слушал.
Его цель – победить. А если он будет спешить, тятька непременно расправится с ним, как с Тимохой.
Наконец отцу надоело наблюдать за волчьей поступью сына, и он пошел вперед. Его натиск был таким стремительным и неукротимым, что Петру пришлось нелегко. Он метался из стороны в сторону, делал волчьи прыжки, пытаясь увернуться от ударов. Однако Федор продолжал наступать. Сабля в его руке была будто бы живая. Она играла, делала невообразимые движения, запутывая противника и принуждая его сдаться.
Но Петр сдаваться не хотел. Заколдованный замысловатой игрой отцовской сабли, он вдруг встрепенулся, сделал волчий бросок вперед и достал бы Федора, коли б не его бойцовский опыт и прирожденная ловкость. Сделав шаг вправо, он быстро развернулся и, схватив пробегавшего мимо него сына за шиворот посконной рубахи, бросил его наземь. Подставленный к горлу Петра клинок говорил о том, что он проиграл вчистую.
– Ну что, воины? Теперь вы поняли, что никуда не годитесь? – довольный собой, проговорил Федор. – А то возьми нас, тять, с собой. Нет, братцы, вначале воевать научитесь, а уж потом просите.
4
Угрюмые и пристыженные стояли сыновья, не смея поднять глаза на отца. В это время мимо опаринского недостроенного заплота от приказной избы ехал на коне хорунжий Ефим Верига.
– Что, смену себе готовишь? – спросил он. – Давно пора! Эвон какие гарные хлопцы вымахали-то!
Федор развел руками. Мол, куда денешься, коли ратных людей в их албазинском войске шиш да маленько.
– Ну а ты что в такую-то рань на коне? – поинтересовался Опарин у товарища. – Никак у атамана был?
– У него, – кивнул головой Верига.
– Дела, что ль, какие были али как? – продолжил интересоваться Федор.
– Дела, Федя, дела…
– Ну а ты не забыл, что завтра в поход? – спросил Опарин.
– Да не еду я, Федя. Приболел вот что-то…
– Приболел? – удивленно посмотрел на него старшина. – В такую-то погодь?
– А хворь не спрашивает, какое ноне число, – усмехнулся Верига. – Придет тогда, когда и не думаешь.
– Это точно, – согласился Опарин. – Атаману-то хоть доложил?
– А как же! Он мне и распоряжения кой-какие дал. Пока, говорит, я хожу – будешь вместо меня в крепости за старшого.
– Вот как? – удивился Федор.
– А то, – погладил бороду Ефим.
Федор покачал головой.
– Напрасно, Фима, ты с нами не едешь. А то б погуляли, как бывалочи… Вокруг-то вон сколь вражьих лазутчиков шастает. Встретим – вот тебе и кони дармовые, вот тебе и оружие. Неужто не завидно?
– Завидно, Федя, но что поделаешь? Грыжа, будь она неладна, замучила. Так что я вам только в тягость буду, – проговорил Ефим.
– Ты нас возьми, тять! – послышался за отцовской спиною голос Петра.
– А ну, робяты, шурло[49] отсель! – приказал он сыновьям. – Негоже слухать разговоры взрослых.
Понурив головы, те побрели домой.
– Ну ладно, Ефим, давай выздоравливай, – сказал на прощание Федор. – Когда вернемся – чтоб на ногах был. А то какой воин с грыжей?
Тот ухмыльнулся и стегнул коня.
– Поеду к бабке Устинье – говорят, она одна тут грыжу заговаривает, – сказал и умчался.
Однако ни к какой бабке он не поехал, а прямиком отправился в тайгу. Где-то там, в непроходимой чащобе, среди лиственниц и сосен с недавних пор раскинула свой табор подорожная вольница. Поначалу разбойные люди шибко-то не баловали – все присматривались да примеривались. А тут вдруг пошло-поехало. Теперь дня не проходило, чтобы они не причинили кому-то зла. Грабили обозы торговых и промышленных людей, воровали коней у пашенных крестьян и казаков, которых потом сбывали на богдойской стороне. Награбленный же у богдойцев скарб, в том числе скот с лошадями, отдавали за бесценок русским барышникам. Так и жили.
Сватажились эти волки еще где-то под Иркутском, откуда вскоре ушли на Лену, где и промышляли до тех пор, пока тамошним людям не надоело нести от них урон. Наслали на них стрельцов да казаков – те и дали татям прикурить. И если бы не главарь этой шайки, то не миновать бы им виселицы. Тот взял и увел их на Амур, где больше было простора для их ремесла и где им ничего не грозило. Ведь здесь же была казачья вольница, а у вольных казаков у самих рыльце в пушку, так что они смотрели на проказы таежных татей сквозь пальцы.
Но это было до поры до времени, пока атаману Черниговскому вдруг не пришла в голову мысль переловить этих дьяволов и учинить им расправу. Об этом они узнали от одного казака, который согласился за определенную мзду помогать им.
Казаком этим был Ефим Верига. Раньше бы он и на пушечный выстрел не подпустил к себе этих убийц и разбойников, потому как сам был человеком сурьезным и богобоязненным, а тут с ним вдруг что-то случилось. Он стал не в меру обидчив, часто злился по пустякам, был груб и дерзок с товарищами. Видно, это все потому, что он чувствовал себя обделенным в этой жизни.
Но больше всего он был зол на атамана. Как ни старался Ефим, Черниговский так и не произвел его в ясаулы, не сделал своей правой рукой. А вот Федьку приблизил. За это Ефим и невзлюбил Опарина. А как иначе? Не успел приехать – тут же в атамановы любимчики попал.
Ох и завидовал же ему Ефимка. У того и должность высокая, и баба-красавица, и детей куча, а теперь еще и наложница эта в придачу. Ну почему одному все, а другому – ничего? Ведь это несправедливо. А коль так, нужно этому положить конец. Вот ежили бы убрать с дороги Никифора с Федькой, тогда бы вся власть в Албазине перешла к нему, Ефиму. Ведь он третий здесь по старшинству – не случайно в чине хорунжего ходит. Коль станет атаманом, то он и Наталью федорову заберет себе, и богдойку эту наложницу, а еще и все припрятанные Опариным богатства приберет к рукам. А помогут ему во всем этом разбойные люди, которые в будущем станут его первыми сподручниками.
На них он вышел случайно. Как-то июньским вечером, обходя караулы, выставленные вдоль ближних дорог, Ефим с двумя казаками попал в засаду. Тех-то сразу упыри уложили из мушкетов, а вот его взяли в полон.
– Почто я вам нужон? – когда убивцы тащили его на аркане в свой табор, спрашивал в страхе он. – Возьмите, дьяволы, мое оружие и коня, а меня отпустите.
Его притащили чуть живым. Весь избитый, в крови, глаза от боли мутные, как у пьяного.
Его освободили от веревок и поставили на колени. Услышав голоса, из шалаша, скрытого от чужих глаз молодым ельников, вышел какой-то человек в помятом чапане и мохнатой шапке. Он был невысок и худ, и его лицо было сплошь покрыто волосами, отчего он был похож на лешака.
– Вот, атаман, казачка в полон взяли, – сказал шороглазый[50] детина с длинной до пояс косматой бородой и квадратным черепом, который еще там, на дороге вместе с товарищами вязал Ефима пенькой.
– В полон, говорите? – наклонившись и внимательно всматриваясь в лицо пленного, спросил тот, кого назвали атаманом. – И кто ж ты будешь?
У Ефима круги плыли перед глазами. Еще бы! Чай, по земле, бесовы дети, волокли. Как еще Богу душу не отдал?
– Ефим я. Верига. Хорунжий албазинского войска, – чуть слышно проговорил он.
Его слова вызвали громкий смех. Дюжины две татей стояли вкруг него и весело гоготали.
– Что гогочете? Так и есть, – обиженно проговорил Ефим.
Главарь поднял руку, и его люди тут же умолкли.
– Да мы тебе верим, казак, только войска-то у вас нет никакого, – усмехнулся он. – Сколь вас там? Сто, двести человек? А разве это войско? Потому мы и не боимся вас, дураков. Что хотим, то и воротим.
– Точно! – поддакнул шароглазый. – Слыхал небось про Шайтана? Так вот это он и есть.
Он кивнул на тщедушного своего вожака.
– Его ноне вся Сибирь боится, даже те, что на богдойской стороне.
Ефим взглянул на главаря и удивился. Вроде человек как человек, правда, косматый, что твой леший. А ведь люди считали его оборотнем. Вроде как бродит по ночам вместе со своими ведьмаками да пугачами и людей со скотом крадет. Албазинцы были уверены, что это кровосос, и чтобы угомонить его, надо раскопать его могилу и пробить труп осиновым колом. Только где эта могила? И кто в ней? Не иначе бывший упырь. Но как его звали-величали?
– Значит, вот ты каков, Шайтан? Слыхали, слыхали – как же не слыхать? Помнится, даже даурский князь Лавкай о тебе говорил. Вроде как ты у него лошадей увел.
– Было дело, – усмехнулся главарь.
– Ну а я давно с тобой хотел познакомиться, – неожиданно проговорил казак.
Шайтан недоуменно посмотрел на него.
– И чиво это? Может, в полон хотел меня взять и на березе вздернуть?
– Да нет, – поморщился Ефим. – Напротив. Помощи хотел от тебя поиметь.
И он стал с жаром рассказывать татям о том, как его тяготит казацкая служба, как он ненавидит всех казаков и особенно тех, кто чинит ему обиду. Разбойные люди слушали его, не перебивая, а когда он кончил говорить, шороглазый сказал:
– Не верю я ему! Давай, атаман, я ему лучше кишки выпущу. Коль отпустим – он сюда казаков приведет.
Но главарь был человеком дошлым и имеющим дар глядеть в душу человека.
– Да нет, этот казак не врет. По глазам его вижу, что он такой же вор, как и мы. А то и хуже, – добавил он. – Вишь, глаза-то какие мутные. И душа такая же у него мутная. Этот будет нам служить.
С тех пор Шайтану было известно все, что творилось в Албазине. Вот и сейчас Верига ехал к разбойным людям, чтобы сообщить им о предстоящем отъезде атамана. А еще он будет просить главаря, чтобы тот со своими людьми устроил казакам засаду, дабы перебить их всех до одного.
«И тогда Амур будет наш, – скажет он при встрече Шайтану. – Всех татей с земли русской соберем и устроим здесь свое царство. Вот уж погуляем!»
5
Распрощавшись с Ефимом, Федор оседлал Киргиза и отправился в Монастырскую слободу. Он-то думал отыскать бронного мастера в кузнице, а увидел его бегущего по проселочной дороге мимо череды убогих крестьянских изб. Впереди, с криком и плачем, прихватив руками полы сарафанов, спасались бегством две его дочки – Любашка и Варька. Что они там натворили – лишь Богу известно, только Платон вконец все-таки догнал их. Содрав с Варьки плетеную опояску, он начал остервенело хлестать ею дочерей. Те визжали на всю слободу, просили пощады, но Платон был неумолим. И только рука Федора остановила его.
– Ты что это, Платон, разошелся? – вырвав из его рук опояску, спросил он. – Али прогневали тебя твои красавицы?
Тот засопел. Его огромные ноздри, словно кузнечные горны, стали бешено и широко раздуваться, обдавая огнем взлохмаченную рыжую бороду. Суровый он был, Платон, хотя, говорят, быстро отходчивый.
– Красавицы! – передразнил он казака. – Вот выпорю их как сидоровых коз, а потом в темном сельнике продержу до утра, тогда узнают, как по ночам блудить.
– Да неужто блудят? – усмехнулся казак и поглядел на Платоновых девок. Те стояли ни живы ни мертвы, боясь, как бы тятька снова не стал их бить.
– Еще как блудят! – сверкнул кузнец глазами. – Вот вымажут люди нам дегтем ворота – как будем жить?
Он обреченно посмотрел на дочерей.
Девки снова в слезы.
– Да не блудили мы, тятенька, ей-Богу, не блудили! – клялась старшенькая, шестнадцатилетняя Любашка. – Мы лишь на лавочке с парнями посидели.
Платон яростно тыкнул пальцем куда-то в сторону.
– А не я ль тебя там… на сеннике вчерась вечером с казацким сынком застукал? Что, забыла? – во гневе спросил Платон.
Поразмыслив о чем-то немного, он перевел взгляд на Опарина:
– А ведь это твой паренек-то был! – сказал он ему. – Женихаться в Монастырщину с дружками бегают. Чай, своих-то девок мало – вот они к нам.
Федор не поверил ему.
– Да как же мой-то, когда они с товарищами целыми днями на пустыре играются? – сказал он.
– А ты спроси Любку-то – она тебе и скажет, – невесело проговорил кузнец.
Федор перевел взгляд на Платоновых дочерей.
– Ты что ль Любка? – указал он нагайкой на старшую.
Та шмыгнула носом.
– Я не Любка, я Любаша. Любкой только тятенька меня во гневе зовет, – сказала она.
– Ну Любаша, так Любаша, – согласился казак. – Ну так скажи мне, Любаша, правду твой отец говорит?
Та кивнула головой и опустила глаза.
– Ишь ты! – подивился Федор. – И кто ж из моих-то? Петр али Тимоха?
– Петя…
Федор покачал головой.
– Да, наш пострел везде поспел, – проговорил он. – Ну и давно это у вас?
– Давно, – ответила Любаша и как бы нечаянно уронила на высокую девичью грудь свою тяжелую пшеничную косу, выбившуюся из-под светлого ситцевого платка. – С прошлого лета. Тогда на Купалу и познакомились.
Федор посмотрел на Платона.
– Ну и что ж тут дурного, Платон Иванов? – сказал он ему. – Мы ведь тоже были с тобой молодыми. Чиво им мешать? Пусть женихаются. Надо ж когда-то начинать.
Платон сжал кулаки.
– Все равно не дам девкам по сенникам лазать. Не девичье это дело. Вот выйдут замуж – тогда другой разговор, – жестко изрек он.
Федор улыбнулся.
– Так ты, поди, и с завалинок их гоняешь, – мирно заявил он. – А где ж молодым тогда встречаться?
Любаша благодарно посмотрела на Федора. Глаза ее синие, словно здешнее небо, лучистые. Кость крепкая – в отца. Такая десятерых моему Петьке родит и глазом не моргнет, удовлетворенно подумал казак и погладил свою густую светлую бороду. Так он делал всегда, когда был чем-то доволен.
– Не хотел я девок рожать, да Бог сыновей не дал, – вздохнул Платон. – Ведь когда сучка в доме – все кобели округ собираются. Ты думаешь, только твой сынок возле нашей избы отирается? Как бы не так! У ей, – он кивнул на Любашу, – этих самых женихов пруд пруди.
– А вот и неправда! – вспыхнула Любаша. – Я только с Петей дружу, а остальных и не замечаю.
Платон фыркнул.
– Не замечает она! А Захарка, сын Демьянов? Не с ним ли я тебя в прошлый раз там же на сеннике прижучил? Что покраснела? Али не так все было?
У Любаши страх и отчаяние в глазах. Господи, что подумает о ней Петин отец?
– Тятя, как ты можешь! – в сердцах воскликнула она и тут же бросилась бежать. Варька за ней.
– Зря ты дочек-то обижаешь, – выговорил Платону казак. – Ведь это твоя надежа. Ну кто тебе в старости, кроме них, стакан воды поднесет?
Платон усмехнулся.
– Но пока-то я сам себе и меду налить могу, – произнес он. – Чай, не старик еще.
Что и говорить, до старости Платону было еще далеко. Здоровье, оно в глазах. А они у него живые, ясные. Лишь иногда затуманиваются грустью или же наливаются кровью, когда он бывает зол.
Вот и походка у него молодая, твердая. И сам он молод и крепок, словно тот могучий кедр, что растет у него на заднем дворе. Силой он не любил хвастать, однако иногда в минуты душевного подъема мог и продемонстрировать ее соседям. Брал, к примеру, кочергу и завязывал ее в узел, а потом просил, чтобы кто-нибудь этот узел развязал. Но кто ж развяжет? И тогда Платон сам брался за дело. Так что уже скоро кочерга принимала свой обычный вид.
У него было вечно опаленное печным жаром строгое лицо. Волосы пшеничные, опоясанные тонкой сыромятью. Одеву носил простую, несмотря на достаток. Ведь у кузнеца, говорят люди, что стукнул, то гривна. Летом – обыкновенная посконная рубаха навыпуск да холщевые портки, засунутые в опорки[51], по праздникам – ичиги[52] с пришивными подпятниками. Зимой овчина, шапка волчья да унты.
– Ну, пошли, что ль, в ковальню[53], – сказал Федор. – А то времени-то у меня не ахти сколь.
Платон этак недовольно глянул на него из-под лохматых бровей и пробурчал:
– А коль нет времени, почто тогда примчался? А то будешь щас торопить – какая работа?
В отличие от многих своих соседей, ютившихся в ветхих куренях, семья бронного мастера жила в светлой большой красной избе с трубою. А то ведь тоже, как многие здесь, начинали с турлучного[54] сарая. Прибыли-то на подводах зимой. На дворе мороз лютует, птицы на лету дохнут от холода. Это вам не родная псковщина, где зимы мягкие да с оттепелями.
Надо было с чего-то начинать. Рубить клеть – занятие долгое. Пока поставишь избу – вечность пройдет. А мороз крепчает. Кто-то стал отогревать землю кострами и рыть землянки. Другие, в том числе и Кушаковы, решили строить временные жилища, которые и поныне кое-где стоят как напоминание о трудных временах. А вот плетневые сараи, овины и тыны и теперь служат людям, выглядывая из-за стоящих вразбежку изб.
– Ты б кваском меня, что ль, угостил, – въехав во двор и спрыгнув с лошади, попросил казак. – Жара-то вон какая – даже горло пересохло.
– Марфа, где ты там? – громко позвал жену кузнец. – Дай гостю квасу напиться.
Тут же на крылечке появилась невысокая юркая жонка с корецом в руке.
– Доброго тебе здоровьица, барин, – поклонившись в пояс, произнесла она, чем смутила Федора.
– Да какой я тебе барин! – обиделся он. – Служивый я.
Она улыбнулась. Дескать, да вижу я, из каких ты людей, но дай, мол, уважить.
– Пей, казак, – протянула старшине березовый ковш.
Опорожнив его в несколько глотков, Федор вытер рукавом губы.
– Хорош квасок, ядреный, – сказал он. – Были б родней – каждый день бы у вас им угощался.
Марфа улыбнулась, а вот Платон, напротив, нахмурил брови.
– Ладно, гайда дело делать, – буркнул он. – Сам говорил, времени у тебя в обрез.
Кузня Платонова стояла в конце большого двора, огороженного тыном. Он ее срубил еще прошлой весной из листвяка. Простору здесь много – конь мог поместиться. В центре кузни, прямо напротив большой двери – горн с широким челом, поддувалом и мехами. Под горном – вытяжной зонт для сбора и отвода дыма из листового железа. Рядом наковальня, тяжелый молот, клещи и несколько молоточков. Ближе к двери – станок для ковки лошадей. В дальнем правом углу – груда металла. Кольца кольчужные, обломки железных лат, сломанные клинки, развороченные стволы пищалей. У слюдяного окна, под верстаком – готовое кузло[55]: пазники[56] разной формы и величины, мотыги, кайлы, скобы, штыри, гвозди, подковы. Была и холодная ковка – разная утварь, посуда, оклады. В слободе больше таких Платонов не было, потому он и коваль, и бронный мастер в одном лице.
– И давно с молотом-то дружишь? – наблюдая за тем, как Платон старательно раздувает мехами огонь в печи, спросил его казак.
– С детства. А ну, подсоби! – попросил он Федора, протягивая ему клещи, в которых был зажат извлеченный из горнила кусок раскаленного металла. – Положишь железо на наковальню и будешь держать, пока я буду по нему стучать.
– И что, кто-то тебя учил этому ремеслу? – крепко держа в руках клещи, продолжал интересоваться Опарин.
– И дед учил, – споро работая молотком, произнес Платон, – и отец учил. Семейное это у нас. Мы и с выварными горнами работали, и с вагранными, с укладными и клинными тоже. Да и на разделительных приходилось.
– А это еще что такое? – не зная премудрости ковального мастерства, спросил Опарин.
– Это что? Это, брат, дело сурьезное. Здесь уже не с простым железом – с серебром дело имеешь. От руды его очищаешь, понятно?
– Ну, разве что маненько, – признался казак. – Я слыхал, что под Нерчинском серебряную руду нашли. Не хочешь поехать? Хотя нет, мы тебя не отпустим. Больше-то у нас бронных мастеров нет. Да и пазники с подковами кому-то нужно делать. Ведь без вас, кузнецов, что без рук.
– Вот и я говорю о том же, – согласился Платон, вытирая потные руки о кожаный фартук. – Жаль, нет у меня сыновей, чтобы дело мое продолжили. Не девкам же своим молот в руки давать.
Он вздохнул. И было понятно, что этот вопрос его сильно мучает.
– А ты возьми любого из моих лощей да научи их своему ремеслу, – неожиданно предложил Федор. – Того же, к примеру, Петра.
Платон покачал головой.
– Не… Твои – казаки, а казаку зачем мужицкое ремесло? – сказал он. – Да я уже и присмотрел тут одного. Захарка, сынок Демьяна Рыбакова. Демьян-то давно просил взять его в подмастерья. У самого пять сыновей, так что и без Захарки будет кому в поле робить.
– Ну как знаешь, – повел плечами Опарин. – А то бы и моего взял.
– Двоих их нельзя держать вместе, – смахивая рукавом рубахи пот с лица, вымолвил он. – Они ж и без того постоянно дерутся.
– И чиво? – не понял казак.
– Ну как же – из-за Любки моей. Все никак поделить ее не могут.
Больше они в тот день этого вопроса не касались. Если говорили, то о пустяках. А когда Платон закончил работу, Федор расплатился с ним серебром и ускакал к себе в острог.





