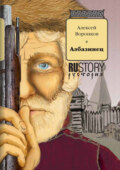Алексей Воронков
Харбин
– Вы когда-нибудь слышали, как плачут зайцы? – почему-то спросил его Болохов.
– Нет, – ответил тот. – А разве они плачут?
– Плачут, да еще как! – в глубине души жалея этого человека, произнес Александр. Тот выглядел настолько потерянным и несчастным, что его нельзя было не пожалеть. «Ну куда же ты едешь, дядя? – мысленно спрашивал его Болохов. Неужели ты думаешь, что тебя кто-то где-то ждет? И вообще кому сегодня нужна твоя скрипка? Другое дело – лопата с кайлом…»
2
До Благовещенска Болохов добирался больше двух недель. Несмотря на то, что в стране полным ходом шло восстановление разрушенного Гражданской войной хозяйства, но и сейчас, через десять с лишним лет после октябрьского переворота, государственная экономика продолжала давать сбои. Взять ту же железную дорогу, где до сей поры не могли навести порядок, который был при царском правлении. Раньше поезда ходили строго по расписанию, а теперь то у них с углем напряженка, то рельсы от старости лопаются, то прогнившие шпалы нечем заменить. Вот и приходилось сутками стоять в тупиках в ожидании чуда. На станциях тоже не лучше. Ни кипятка тебе, как в прежние времена, ни буфетов с продуктом. Сунешься – и вернешься ни с чем. Разве что у какой старушки вареной картошки, посыпанной жареным луком, перехватишь – на большее не рассчитывай. А что в вагонах творится! Вонь, грязь… Окна и те застеклить некому. Зимой еще ладно, а если ты поздней осенью отправился в путь или, допустим, в зимнюю стужу?.. Это уже даже вам не драма – трагедия! Сам Сталин недавно заявил, что железная дорога есть наше слабое место, о которое спотыкается вся наша экономика.
…Вот в таком выстуженном вагоне и отправился Болохов в конце января 1929 года к далекому Амуру. До Урала еще было терпимо, здесь климат мягче, а вот за хребтом резко похолодало, и закашлял народ. Тут бы согреться чем, а если нечем? Это хорошо тому, у кого водочка с собой была с сальцом – тут уже можно было перемочь всю эту недолгу, но большинство ведь ехали без припасов. Думали, в дороге чего урвут, тем же кипятком перебьются, а кипяток-то в дефиците оказался. Вот и страдали люди.
Среди этих страдальцев был и Болохов. Правда, кипяток, в отличие от других вагонов, в их спальном все-таки имелся. Шустрые проводники, понимая, что народ здесь едет непростой, как могли, старались. У них даже сахарок с заваркой к кипяточку был припасен, а еще «московские сухарики» в упаковке. И все это подавалось на подносе. Порой на другом конце вагона было слышно, как звенят стаканы с ложечками в мельхиоровых подстаканниках, когда проводники разносили чай. И тепло становилось на душе от этого веселого перезвона. Однако на одном чае да сухарях далеко, как говорится, не уедешь. Поэтому Болохову приходилось посещать вагон-ресторан. Благо, деньги на это пока что имелись. Хотя, когда он уезжал, в финчасти его строго-настрого предупредили, чтобы он особо-то не барствовал. Дескать, время сейчас тяжелое, поэтому экономь. А-то, мол, так мы весь командировочный лимит быстренько исчерпаем. Правда, пообещали, что в Харбине он получит от резидента немного инвалюты. Так сказать, на первый случай. А потом-де сам крутись.
Что и говорить, судьба нелегала всегда находится в его собственных руках. Надеяться тут особо не на кого. Так что зарабатывать на жизнь часто приходится самому. Взять ту же иностранную валюту. Откуда ей браться, если Советская Россия по-прежнему находится в экономической блокаде? В конце концов не налетчиков же своих засылать за кордон, чтобы они грабили иностранные банки. Это до революции большевики не брезговали экспроприировать чужое добро, чтобы достать деньги на содержание своей организации, а теперь им нужен был цивилизованный имидж – только так можно было завоевать авторитет у заграницы. Вот и приходилось чекистам совмещать профессии. Одни, работая под прикрытием, становились журналистами, другие адвокатами или аптекарями, а кому-то, как, к примеру, приятелю Болохова Семену Шпигельгласу, пришлось даже в Париже раками торговать. Казенные деньги не жалели лишь в том случае, когда нужно было кого-то завербовать или нанять человека, который за хорошее вознаграждение готов был выполнить любое поручение. А больше ни-ни…
…А на одной из станций, это когда они уже перевалили за Урал, вагон-ресторан вдруг отцепили, сославшись на то, что у него вышла из строя колесная пара. Тут же у всех, кто им пользовался, заурчали голодные кишки, и люди заныли от отчаяния. Болохову тоже стало грустно, и это несмотря на то, что к еде он относился, в общем-то, по философски. Есть она – хорошо, нет – и так не пропадем. На этот раз его проняло. Черт бы их всех побрал! – думал он, возвращаясь со станции с пустыми руками. – И куда все подевалось? Ведь даже в Гражданскую буфеты на вокзалах работали, а тут консерву плохонькую негде купить. Неужто так сложно наладить торговлю? Днепрогэс вон мощную строим, самый большой в мире металлургический комбинат на Урале возводим у подножия горы Магнитной, а тут на станциях шаром покати – не смешно ли? А ведь еще римляне говорили, что дорога – это жизнь. А какая тут, к черту, жизнь, когда ни пожрать тебе, ни выпить. А холод-то, холод какой в вагоне! Как будто ледниковый период снова наступил.
Болохов был человеком бывалым, но и его раздражала, более того, выводила из себя вся эта неразбериха на железной дороге, весь этот неустрой и беспорядок. Люди уже начинают ко всему этому привыкать, но то, думает он, плохая привычка. Свинья ведь тоже привыкает к грязи, но люди ведь не свиньи. Не для того он с товарищами совершал эту революцию, чтобы им жилось хуже, чем при царе. А ведь покуда хуже. Отсюда разброд и шатания повсюду. Бурчит народ. Те, кто еще вчера приветствовал революцию, перестают верить большевикам. А это трагедия. Из курса Всемирной истории Болохов знал, что бывает, когда народ начинает разочаровываться в революции. Тогда, чтобы защитить ее, вожди велят сечь недовольным головы. Это называется революционным террором, который не возникает сам по себе, а порождается объективными обстоятельствами. Вот и партия Ленина все чаще начинает прибегать к силовым мерам, пытаясь заткнуть глотки тем, кто наносит вред революции. Болохов считает, что такие действия в данной ситуации можно оправдать – ведь они направлены на то, чтобы удержать в руках власть. Да, крови пролито уже много – одна Гражданская война чего стоит! – но без крови революций не бывает. Всегда найдутся те, кто захочет повернуть все вспять. Внутренние враги – это одно, но ведь есть еще враги внешние. Те-то думали, год-два – и все у большевиков закончится крахом, ан, нет, дышим, радуется Болохов. Даже в будущее смотрим. Вот и первый пятилетний план приняли, по которому уже второй месяц живет вся стана. В общем, дела идут – только бы войны не было.
А ведь вожди говорят, что она неизбежна и что к ней нужно готовиться. Вон сколько военных заводов заложили по стране. В течение нескольких лет хотим провести полное обновление индустрии. Для этого даже самых лучших зарубежных специалистов приглашаем на заводы, чтобы те учили советскую молодежь. А ведь именно на молодежь сегодня вся ставка. Эти не знают, как там было раньше, живут настоящим. Им кажется, что раньше вообще ничего не было, что мировая история начинается именно с них. Смешно об этом слышать, однако позиция эта революционно разумна. Как там в песне?.. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим…» Правильно, незачем оглядываться назад, надо жить будущим. А будущее это должно быть светлым. Но чтобы и впрямь у революции было будущее, ее нужно защитить. И они, большевики, этим сейчас занимаются. Для этого партия мобилизовала все силы, призвав в ряды защитников революции лучших своих товарищей. Болохов – один из них. У него большой опыт борьбы, и партия учла этот факт, когда предложила ему работу в органах ЧК. И вот он уже почти десять лет занимается тем, что борется с врагами революции. У него особый статус. Как у того Самсона, который по распоряжению Робеспьера и его соратников рубил головы противникам якобинской диктатуры. Правда, Болохову эшафот и гильотина не нужны – все его задания носят абсолютно секретный характер. Таких, как он, в их ведомстве называют «чистильщиками», которые тайно убирают врагов революции, стараясь при этом не оставлять никаких следов. Это обычно воинствующие фанатики. Совершив политическое убийство, торопятся взять всю вину на себя, а партии такая реклама не нужна. Как говорится, сделал дело – и концы в воду.
…После Омска вообще стало ехать невмоготу. Ледяной ветер, не видя преграды, буквально врывался в разбитые окна вагона, выгоняя из него последнее тепло. Народ примолк в ощущении своей беспомощности. А если и подавал голос, то только затем, чтобы выплеснуть свою внутреннюю тревогу.
– Ой, помрем ведь, помрем! – причитала какая-то тетка за стенкой. Там на последней остановке хулиганы, выстрелив из рогатки, разбили окно, и люди страдали. – Ты б, мил человек, заткнул бы чем эту дыру, – обратилась она, видимо, к соседу. – А то точно помрем!
– Стрелять всех этих бандитов надо! – в ответ прозвучал высокий мужской голос. – А то они жизни нам не дадут.
– У меня ребеночек уже простыл – слышите, как кашляет? Не дай бог, скарлатину какую подхватит, и что я тогда? – спрашивала молодая родительница, укачивая на руках годовалого пацана, который часто и надрывно кашлял и исходил ревом.
– Да не верещите вы, ей-богу, – доедем! – пытался успокоить соседей низкий мужской голос – А дыру я сейчас чем-нибудь закрою…
– Чей-то они там так раскудахтались?.. – недовольно пробурчал со второй полки бородач, который назвался Фомой Бобровым. Тот не просыхал всю дорогу. Покончит с одной бутылкой – лезет за другой. Когда запасам пришел конец, он стал выходить на остановках, где ему за три цены какие-то дошлые люди продавали из-под полы водку. Впрочем, он не брезговал и бражкой, а если был самогон, то был рад и ему. Главное, чтобы било в голову. Так легче переживать момент, а еще – быстрее время летит.
– Да окно там у них, кажется, разбили, – ответил Сандер.
Лешак, а так его про себя называл Александр, недовольно хмыкнул.
– Ну и что с того? У нас жизнь разбили – и ничего, а тут всего-то окно… Правильно я говорю, гражданин хороший? – оперев голову на локоть, глядит он сверху вниз на Болохова. Тот только поежился и поглубже зарылся в свое черное цивильное пальто на ватине, которое накануне ему сшили по специальному заказу в ведомственной портняжной. Не в красноармейской же шинели ехать, да и не в кожанке, какие носил каждый второй его коллега, перепоясавшись солдатским ремнем.
– Это вы, может, доедете, дяденька, а мы нет, – снова зазвучал за стенкой плаксивый голос молодой мамаши. – Ой, чую, не довезу я сыночка… И что отцу его буду говорить?
– Нате вот мое пальто, – произнес низкий голос. – Накройте им малыша.
– Ба! – изумилась за стенкой мамаша. – А вы как же? Ведь вон как холодно.
– Ничего, я как-нибудь… Ты малыша береги.
Лешак, слышавший все это, снова хмыкнул.
– Пусть скажет спасибо, что в купейном едет, а то бы вовсе впору было руки на себя наложить, – проговорил он.
– Вы это кому говорите, уважаемый? – не понял его скрипач.
Тот усмехнулся.
– Кому-кому!.. Кому надо, тому и говорю… – Он на мгновение умолк, чтобы подчеркнуть свою глубокомысленную сущность, а потом снова в купе раздался его куражливый голос. – Раньше только благородные люди разъезжали в спальных вагонах. Остальная муть ехала в плацкартных да общих. И правильно, все должно в этой жизни соответствовать своему рангу. А то ведь бардак получается. Ну, посади сюда, допустим, сопливого деревенского мужика, который в своем хозяйстве-то навести порядок не может. И что будет? Грязь, те же сопли, да еще дух зловонный… Или, к примеру, взять тебя, Абрашка, – обращается он к Сандеру, – и вот этого благородного господина в новом пальто. Он точно по рангу едет, потому что в нем дух чистоты и культуры живет, а ты что? Ну, глянь на себя – разве ты достоин спального вагона?
Скрипач оскорбился.
– Я думаю, и вы далеко не благородных кровей! – покраснев от возмущения, заявил он. – Но вы же едете… И вообще сегодня у нас все равны! Свобода, равенство, братство – слышали о таком?
Леший вдруг начал ржать, словно лошадь.
– О каком, братец, равенстве ты говоришь? – спросил он. – Ну а свобода… Где она? Тю-тю! А может, ты еще скажешь, что мы братья друг другу? Нет, милай, это только лозунги ваши такие, а на самом деле ничего этого нет. Если бы это было, мы бы с тобой сидели сейчас дома, а не мерзли здесь…
– Я, конечно, извиняюсь, но ты, сосед, не прав, – неожиданно подала свой голос генеральская теща, которую, как выяснилось, звали тетей Полей. Она только что в очередной раз поела и теперь прилегла на нижнюю полку отдохнуть. – Вот взять моих детей. Кем бы они сейчас были, если бы не революция? – а так в люди вышли. В доме вместе с правительством живут. Конечно, не все еще у нас так, как хотелось бы… Я рассказывала зятю, как живут наши сибиряки, как они перебиваются с кваса на воду да костерят власть, а он не верит. Не может, мол, такого быть, у нас все властью довольны, а я ему: а вот и не все!
– Конечно, не все! – поддакнул ей скрипач. – Война давно кончилась, а люди по-прежнему стреляют друг в друга.
– Стреляют… – согласилась тетка. – У меня соседа в прошлый год ни за что убили. И ведь не бандиты какие – свои, государственные люди. Парень только словом нынешнюю власть уколол, а его и хлопнули. Взяли прямо из дома вечером и хлопнули.
– Кто хлопнул-то? – поинтересовался Фома.
– Сказала же, государственные люди… Из местного ЧК.
Бородач тяжело вздохнул.
– В городе, что ль, живешь? – спросил тетку.
– Да в ем, – ответила та. – Иркутская я. Там всю жизнь и прожила-промаялась.
– А что маялась-то? – не понял бородач.
Соседка фыркнула.
– Как что? Разве то раньше жизнь была? – спросила.
– Ну а сейчас лучше, что ль? – напрягся в своем порыве Фома. – Для простого человека ить и сейчас жизни нет. Кругом те же баре. Правда, раньше палкой били, а теперь все к стенке норовят поставить.
Услышав это, Болохов нахмурился. Ему бы прекратить этот разговор, а он не может. Потому что его не поймут. И сразу начнут что-то подозревать. А ему это надо? В другой бы раз он не промолчал – выдал бы им по полной. Чтобы они никогда больше такого не говорили. Но сейчас об этом и думать нельзя было.
– Ну а ты говорила своему генералу про соседа? – спросил Фома тетку.
– Говорила, – ответила та.
– А он что?
Тетка Поля вздохнула.
– Он-то?.. А ему по чину нельзя нашу жизнь критиковать. А так он все понимает – он у нас умный. Однажды, правда, сказал: ЧК – это еще не вся советская власть. Так что и на нее, если надо, управа найдется.
Болохов побледнел. Что ж ты делаешь, глупая! – чуть было не сорвалось у него с языка. – Ты же зятя своего таким вот образом подводишь. Ишь, раскудахталась!.. Или не знаешь, в какое время живем? Вот возьмет кто да донесет на тебя – и все, и поминай, как звали. А заодно и детям твоим не поздоровится.
– А давайте не будем о политике… – пытался перевести он разговор на другую тему. – Лучше расскажи-ка, друг сердечный, о том, как там наш крестьянин готовится к посевной, – обратился он к Фоме. – Есть ли семена, как обстоят дела с техникой? «Фордзоны»-то небось пришли в село? Или у вас по-прежнему все на лошадиной тяге? – выказывал он свои крестьянские познания. Однако лешак молчал. – Ну что молчишь? Или сказать нечего?..
– Ну как же, скажу!.. – наконец откликнулся Фома. – Деревня без мужика осталась – тогда о чем может быть речь? Не будет никакого сева…
– Врешь! – вдруг не выдержал Болохов. – Врешь ты все! Крестьянин – он вечен, потому никуда он не денется. И неважно, при каком строе он живет. Он все равно будет работать на земле. А ты?.. Нет, ты не мужик, ты… ты паникер!
При этих словах у Фомы глаза чуть не вылезли из орбит.
– А ну повтори еще раз!.. – грозно проговорил он, пытаясь слезть с полки. – Повтори, говорю тебе!
Болохов знал, что обычно за этим следует, поэтому решил каким-то образом успокоить Фому. Нет, не из-за страха получить от того бугая по морде, просто ему не нужен был шум. А вообще-то он за себя постоять мог. На курсах по подготовке оперативных работников ОГПУ им преподавали боевые приемы борьбы, которые он неплохо освоил. Позже это ему не раз помогало, когда он был вынужден без оружия в руках защищать свою жизнь. А ведь не подумаешь. Весь его вид – и эта копна чуть вьющихся льняных волос, и это бледное продолговатое красивое лицо с чувственным ртом и ясной голубизной глаз – больше говорил о том, что перед вами этакий рафинированный интеллигентик. А то и молодой повеса, какие еще недавно в поисках приключений дефилировали по Невскому и которым было чуждо все грубое и недостойное их внутренним установкам. Однако, несмотря на свою внешность, это был матерый и жесткий в своих решениях боец революции.
– А что, если мы закажем чайку? – неожиданно предложил он соседям. Не дождавшись ответа, он открыл дверь. – Сейчас я схожу к проводникам, спрошу, есть ли у них кипяток…
Пока он где-то гулял, Фома, пережив в душе обиду, вытянулся наверху и захрапел. И когда он через какое-то время проснулся, то его уже занимали совершенно другие мысли.
Глава вторая. Секретная миссия
1
На Дальний Восток Болохов ехал с двойственным чувством. С одной стороны, он рад был снова оказаться в тех краях, где для него когда-то закончилась Гражданская война. Одновременно он ощущал в душе какую-то смутную тревогу. Как у всякого тяготеющего к искусству человека, у него было хорошо развито иррациональное начало, проще говоря, интуиция, которая не раз выручала его в трудную минуту. Ведь он умел предчувствовать беду, что очень важно для разведчика. Только сейчас он никак не мог понять, что вдруг его так сильно встревожило. Ведь за эти годы он должен был уже привыкнуть ко всему, а тут вдруг такое…
Прошло уже почти десять лет с тех пор, как бывший лихой рубака Сашка Болохов впервые попал на Дальний Восток. К тому времени уже ушли в прошлое кровопролитные бои за Москву, Петроград, юг России, Поволжье, Урал, Сибирь. Стали историей походы против Деникина, Краснова, Юденича и Колчака, экспедиционных корпусов Антанты и белочехов. Но впереди еще были Амурский, Хабаровский и Уссурийский фронты, ликвидация бочкаревской авантюры на Камчатке, пепеляевская – на Охотском побережье, освобождение от японцев и белогвардейцев Читы, Благовещенска, Хабаровска, Уссурийска и Владивостока.
К двадцатому году красным удалось выйти на линию Транссиба и с боями дойти до станции Иман, однако юг Приморья по-прежнему оставался в руках противника. Это был последний очаг сопротивления врагов революции, который красные пытались уничтожить. Однако покуда им это не удавалось. Обстановка по-прежнему оставалась напряженной и опасной. Противник не только не цеплялся за последнюю возможность остаться на территории России, но и делал попытки развить наступление в надежде вновь раздуть пламя Гражданской войны. Этому способствовала позиция Японии, которая отказывалась вести переговоры с советским правительством о заключении мира. Более того, в начале 1920 года она договорилась с США об усилении антисоветской интервенции. Все это говорило о том, что враг попытается взять реванш за прежние свои поражения. Дальневосточникам требовалась помощь, однако Советская республика, связанная борьбой с Врангелем и белополяками, была зажата в тисках разрухи, голода и блокады и не могла вести войну на два фронта.
Под давлением мирового общественного мнения японское командование пообещало сохранить нейтралитет и не вмешиваться в русские дела, если на Дальнем Востоке не будет объявлена советская власть. Чтобы сохранить мир в этом крае и предотвратить новое нападение Японии, советское правительство приняло решение о создании буферного государства. Об этом было объявлено на состоявшемся 6 апреля 1920 года съезде трудящихся Прибайкалья. В принятой на съезде декларации указывалось, что дальневосточные области – Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская, Камчатская и полоса отчуждения КВЖД отныне объявляются независимой демократической республикой ДВР. Было выбрано Временное правительство, перед которым встала задача объединить в единое государство все области Дальневосточного края, добиться вывода японских войск с этих территорий и ликвидировать внутреннюю контрреволюцию. 5-й армии, покончившей с Колчаком в Сибири, пришлось на время отказаться от наступательных операций и расположиться гарнизонами вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали.
В те дни сложилась, выражаясь шахматным языком, патовая ситуация. Начались переговоры между командующими силовых группировок, которые привели к образованию нейтральной зоны, этакой разграничительной линии между войсками Народно-революционной армии и армии интервентов. По обоюдному согласию, ни войска НРА, ни войска японцев не должны были находиться в этой зоне. Для охраны же внутреннего порядка был организован отдельный батальон народной милиции ДВР с подчинением уездной земской управе. В силу обособленности нейтральной зоны ни о каком революционном порядке на ее территории нечего было и говорить. Там процветал уголовный и политический бандитизм, проституция, контрабанда. Иман, этот небольшой городок с населением в два десятка тысяч человек, стоял у границы и являлся притоном всякого рода спекулянтов, аферистов, бандитов и контрабандистов. В центре его располагалась некая организация, именовавшая себя китайским консульством, охраняемым вооруженными до зубов маузеристами из числа промышлявших на территории России и Китая разбоем и убийствами хунхузов, а также местных бандитских кланов. Все знали, что эта контора возникла самостийно, без всякого согласования с местной управой и органами власти недавно образованной буферной республики – ДВР – и фактически являлась «крышей» для контрабандистов и других уголовных элементов.
В мае 1921 года в это пекло и был брошен в качестве заместителя начальника военно-контрольного пункта Госполитохраны ДВР бывший командир красного эскадрона Болохов. Отправляясь к месту своего назначения, Александр уже знал, что после ухода интервентов из нейтрального района там, в Имане, осталась хорошо законспирированная японская агентура, работавшая с дальним прицелом. Кроме того, там действовала банда некоего Бочкарева, которая, по слухам, принимала непосредственное участие в убийстве в станционном поселке Муравьев-Амурский руководителей приморского подполья Лазо, Симбирцева и Луцкого. Сотрудникам военно-контрольного пункта нужно было найти и ликвидировать эти осиные гнезда. Задача невероятно сложная, учитывая скромные силы отряда, однако военным контролерам была обещана всяческая поддержка. Так, Болохову во время инструктажа в Хабаровском управлении Госполитохраны было сказано: в случае каких-либо затруднений они всегда могут обратиться за помощью и советом к некоему Якову Арнольдовичу Пизняку, неофициальному представителю Далькрайкома партии в нейтральной зоне.
По приезде в Иман Болохов, как говорится, попал с корабля на бал. Не успел он появиться в расположении военно-контрольного пункта, как поступило сообщение, что многочисленная банда хунхузов перешла границу и грабит местное население. Александр, не долго думая, отыскал себе коня и вместе со всем отрядом поскакал к границе. Неожиданное появление военных контролеров внесло панику в ряды бандитов, поэтому бой был недолгим. Потеряв двоих своих товарищей, они бежали в Маньчжурию. Среди бойцов потерь не было, если не считать одного легкораненого. Тут же жителям подвергшейся нападению деревни, что стояла на самом берегу Уссури, было возвращено десять лошадей, отбитых у бандитов, о чем командир отряда Проценко и доложит в своем донесении на имя начальника Хабаровского управления Госполитохраны товарища Сократа.
Первое, что сделал тогда Болохов, он уговорил своего командира очистить пункт от случайных людей, которые, примазавшись к советской власти, занимались черт знает чем. Несколько сотрудников пришлось выгнать за пьянство и нарушение воинской дисциплины, заменив их надежными бойцами из батальона милиции. Затем они закрыли незаконное китайское консульство и, разоружив его сотрудников и охранников, выдворили их за кордон. Изъятые у «консульства» немецкие маузеры передали милиционерам, а двухэтажное здание его перешло к уездной земской управе.
Теперь нужно было заняться поиском японской агентуры. Однако с чего начать, за что уцепиться, они не знали. Поразмыслив, решили прежде всего обратить внимание на контору таможенного поста станции Муравьев-Амурский. Там служили пятнадцать чиновников, связанных по своей работе с заграницей, причем личный состав поста не менялся со времен колчаковской администрации. И они не ошиблись: информация разведывательного характера выходила именно отсюда. Одно из таких донесений, перепечатанное на конторском «ундервуде», даже попало в руки военных контролеров. Но кто из чиновников являлся агентом, определить было пока трудно.
Чтобы найти подлеца, решили действовать методом исключения и наконец остановились всего на нескольких сотрудниках. Машинистка поста, пожилая дама, бывшая ранее учительницей, проговорилась, что кроме нее в их конторе печатной машинкой пользуется еще управляющий, остальным же она вроде как без надобности.
Круг подозреваемых сузился настолько, что и ежу, как говорится, стало понятно, кто работает на японцев. Начали следить за управляющим.
По словам одного из таможенников, который согласился сотрудничать с контролерами, то был желчный и себялюбивый человек, люто ненавидевший большевиков. Такой, безусловно, мог пойти на предательство.
Вскоре подозрение, что управляющий является японским агентом, подтвердилось: его взяли с поличным, когда он ночью в своем служебном кабинете печатал на «ундервуде» очередную свою депешу японцам. На допросе тот, дабы смягчить свою участь, сознался, что является резидентом японской разведки, причем связь со своим начальством он поддерживает через китайскую территорию, в чем ему помогают контрабандисты, которым он делает таможенные послабления. Вслед за управляющим были арестованы несколько выданных им с перепуга агентов. При обыске их квартир выяснилось кое-что интересное. Оказывается, эти люди настолько были уверены в своей безнаказанности, настолько вольготно чувствовали себя в шкуре шпионов, что потеряли всякую бдительность, потому даже не потрудились избавиться от многих вещдоков. Тот же резидент в нарушение всех инструкций хранил дома отпечатанный на злополучной машинке доклад о положении дел в нейтральной зоне.
Теперь Болохов с улыбкой вспоминал то время. Ведь у него и его товарищей из органов Политохраны совершенно не было никакого опыта в следственной работе. Действовали, как говорится, по наитию, если учесть, что тогда еще не были введены ни Уголовный, ни Уголовно-процессуальный кодексы. Однажды им дали познакомиться с одним законченным следственным делом, выполненным, насколько это было в то время и в тех условиях возможно, профессионально. Его-то и приняли за образец оформления соответствующих следственных действий по рассматриваемым делам. Первое заключение, которое Александр написал, заканчивалось примерно так: «Руководствуясь революционной совестью и правосознанием, полагал бы применить к имяреку высшую меру наказания: расстрел».
После Имана был Владивосток. В то время, когда вся страна уже потихоньку начинала приходить в себя после разрушительной войны, Александр и его товарищи в далеком Приморье продолжали бороться за советскую власть. Здесь был последний очаг контрреволюции, пригретой японскими интервентами, и его нужно было во что бы то ни стало уничтожить. ЧК покуда в Приморье не было, и его функции выполняла Госполитохрана, находившаяся на полулегальном положении, так как официально такого учреждения не существовало: оно не было определено русско-японской согласительной комиссией, поэтому любой японский жандарм мог разоружить сотрудника ГПО. Оружие с установленным количеством патронов имели право носить лишь сотрудники небольшого по численности отряда милиции да еще бойцы дивизиона народной охраны.
Утром 26 мая 1921 года японцы, нарушив нейтралитет, взяли власть во Владивостоке в свои руки. Сотрудникам ГПО пришлось уйти в сопки и влиться в ряды дальневосточных партизан, чтобы через два года вместе с Народно-революционной армией вернуться в город победителями.
Он хорошо помнит, что собой представлял отбитый тогда у врага Владивосток. Конец октября. С утра с моря подул холодный ветер, и небо заволокли тучи. Весь день этот сквознячок гулял по улицам, гоняя из угла в угол россыпи опавшей листвы. До зимы было еще далеко, но в воздухе уже нет-нет да возникала эта морозная свежесть, спускавшаяся с близких таежных сопок. Часто в эти дни лили дожди, и было промозгло и неуютно. В такую пору хорошо сидеть дома у натопленной печи, а тут на улицах столько народу!.. Будто бы праздник какой. Впрочем, для кого-то это и был праздник, особо для тех, кто криками «Ура!» встречал Народно-революционную армию, которая нестройными рядами батальонов, грохоча сапогами, сурово входила на покрытые вязкой осенней грязью приморские улицы.
Для других же это был день крушения всех их надежд. Белые сушей и морем под прикрытием японцев уходили в Корею, в Шанхай и Маньчжурию. С собой они увозили все, что могли; бывало, что угоняли и суда.
А вот интервенты, несмотря на то, что Гражданская война закончилась, не спешили убираться домой. В бухте Золотой Рог стояли два японских крейсера «Ниссин» и «Косуга» да еще транспорт с морской пехотой. И если «Косуга» и транспорт вскоре ушли, то крейсер «Ниссин» так и остался стоять до апреля 1923 года под предлогом охраны подданных Японии.
То был поистине новый Вавилон. В городе оставалось еще много белогвардейцев, которые не успели уйти за кордон. Сюда же хлынули толпы беженцев со всей России в надежде под прикрытием японцев покинуть страну. Среди них крупные буржуа, чиновный люд, но больше всего было перепуганных обывателей. Эти люди денно и нощно рыскали по городу в надежде, что кто-то поможет им бежать из этой страшной страны. Кому везло, те грузили свои пожитки на иностранные морские транспорты, которые и увозили их потом в никуда.
Владивосток по-прежнему оставался портом международного класса, и в бухту Золотой Рог даже в это смутное время продолжали заходить иностранные суда. На Светланской, центральной улице города, можно было встретить и американцев, и французов, и британцев с малайцами… То была матросня, всевозможные дельцы черного рынка, бизнесмены, авантюристы-международники… Граница с соседним Китаем охранялась еще плохо, и во Владивосток шел непрерывный поток контрабандного товара, где наряду с обычными шмотками и продовольствием был и кокаин, и опий, и сигареты, начиненные наркотиками. В ресторанах круглосуточно гремела музыка, где в основном гуляли иностранцы да нэпманы, нахлынувшие вслед за Красной армией из центральных областей России. По ночам за окнами то и дело вспыхивали перестрелки. Это орудовали бандиты, пытавшиеся установить здесь свои порядки.