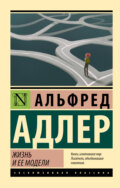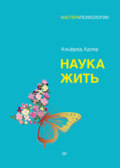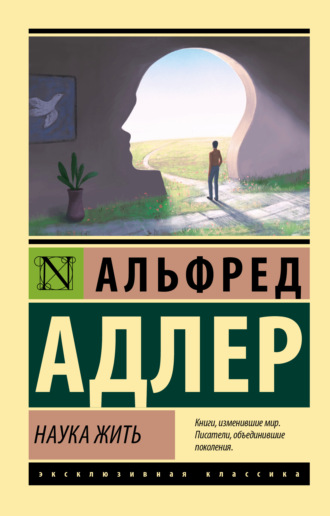
Альфред Адлер
Наука жить
Это искусство понимания ранних воспоминаний подразумевает высокую степень отзывчивости, способность поставить себя на место ребенка в его ситуации. Лишь такая высокая степень отзывчивости позволяет нам осознать всю серьезность для ребенка появления младшего в семье или тот отпечаток, что оставляют в детских умах издевательства вспыльчивых отцов.
И раз уж об этом зашла речь, необходимо подчеркнуть, что наказаниями, замечаниями и нотациями ничего не добьешься. Ничего не выйдет, если ни ребенок, ни взрослый не понимают, в какой момент нужно что-то поменять. Ребенок, не понимая, становится лишь изворотливее и трусливее. Однако, наказывая и читая нотации, его прототип не изменить. Его не изменить лишь жизненным опытом, поскольку его опыт уже согласуется с личностной схемой апперцепции. Только подобравшись к самой основе личности, можно хоть что-то изменить.
Если понаблюдать за семьей, в которой дети плохо развиты, то можно увидеть, что, на первый взгляд, все они кажутся умными (то есть на заданные вопросы дают верные ответы). Однако, когда мы присмотримся к симптомам, речевым оборотам, то заметим ярко выраженное чувство неполноценности. Ум и здравый смысл, естественно, не одно и то же. У таких детей абсолютно личная – мы могли бы ее назвать «индивидуальная» или «субъективная» – психологическая установка, подобная той, что встречается у невротиков. Так, при неврозе навязчивости пациент осознает, сколь тщетно все время считать количество окон, но остановиться не в состоянии. Человек, который интересуется полезными вещами, так не поступает. К тому же, субъективное, индивидуальное в процессе понимания и языке свидетельствуют о душевном заболевании. Душевнобольные не говорят на языке здравого смысла, а язык является проявлением высшей меры социального интереса.
Если сравнить суждение на основе здравого смысла с суждением индивидуальным, субъективным, обнаружится, что первое обычно ближе к правде. Здравый смысл помогает нам различать хорошее и плохое, и, хотя в сложной ситуации мы часто ошибаемся, эти ошибки благодаря здравому смыслу исправляются сами собой. Но тот, кого волнуют лишь личные интересы, не сможет так же уверенно отличить добро от зла. Напротив, он скорее выдаст себя с головой, поскольку все его действия для наблюдателя как на ладони.
Рассмотрим, к примеру, совершение преступлений. Если мы поинтересуемся интеллектом преступника, его осознанностью и мотивами, мы обнаружим, что он всегда считает свои преступления и умными, и героическими. Преступник верит, что получил превосходство: он превзошел умом полицию и способен брать верх над другими людьми. В своей голове – он герой, и не понимает, что его действия демонстрируют нечто иное, весьма далекое от геройства. Отсутствие социального интереса, которое лишает его действия полезности, связано с недостатком мужества, с трусостью… о чем он и не догадывается. Те, кто обращается к бесполезной жизни, часто боятся темноты и одиночества, и жаждут быть с людьми. Но давайте называть вещи своими именами. Они трусы. И воистину наилучший способ остановить преступления: убедить всех вокруг, что преступление – всего лишь проявление трусости.
Известно, что некоторые преступники ближе к тридцати годам устраиваются на работу, женятся и в дальнейшем становятся добропорядочными гражданами. Почему такое происходит? Возьмем, к примеру, грабителя. Разве может грабитель, которому уже тридцать, соперничать с двадцатилетним? Последний и умнее, и сильнее. Возраст вынуждает преступника менять условия своей жизни. В результате его профессия больше не приносит прибыли, и ему удобнее отойти от дел.
Еще один факт, который следует учесть, говоря о преступниках, заключается в том, что, увеличивая наказание, чтобы напугать отдельно взятого преступника, мы лишь взращиваем его веру в свой героизм. Не стоит забывать, что мир, в котором живет преступник, крутится вокруг него одного, в нем нет места истинной храбрости, уверенности в себе, чувству общности или пониманию общечеловеческих ценностей. Такие люди не могут влиться в общество. Невротики редко создают клуб, а для людей, страдающих агорафобией, или для душевнобольных – это задача в принципе невыполнимая. Трудные дети или люди, идущие на самоубийство, не заводят друзей… причина сего факта всегда опускается. Однако она существует: они не заводят друзей, потому что в раннем детстве все в жизни крутилось вокруг них. Их прототипы были направлены на ложные цели, и жизнь потекла в бесполезном направлении.
Теперь обратимся к программе, которую предлагает индивидуальная психология, чтобы воспитать и обучать невротиков: детей с расстройствами нервной системы, преступников и алкоголиков, которые таким способом хотят сбежать от полезной жизни.
Чтобы легко и быстро понять, что не так, для начала мы интересуемся, когда возникла проблема. Обычно винят какую-то новую ситуацию. Но в этом и заключается ошибка, поскольку еще до этого непосредственного события наш пациент – как мы увидим далее – не был к нему подготовлен. В благоприятных условиях ошибки его прототипа не проявлялись, зато каждая новая ситуация является своего рода экспериментом, на который человек реагирует согласно схеме апперцепции, созданной его прототипом. Его ответы – не простые реакции, это проявление творчества согласно конкретной цели, главной цели на протяжении всей его жизни. Еще в самом начале исследований в рамках индивидуальной психологии мы опытным путем поняли, что можно не принимать во внимание фактор наследственности, как и фактор одиночества. Мы видим, что прототип отвечает на происходящее в соответствии со своей собственной схемой апперцепции. И именно над этой схемой апперцепции следует работать, чтобы получить какие-либо результаты.
Все это вкратце описывает подход индивидуальной психологии, который разрабатывался последние двадцать пять лет. Как видно, эта наука прошла долгий путь в новом направлении. В психологии и психиатрии существует множество дорог. Один психолог идет в одном направлении, другой – в другом, и каждый считает, что все остальные ошибаются. Читателю, вероятно, тоже не стоит полагаться на догмы и убеждения. Пусть сравнивает. Он поймет, что мы не можем согласиться с так называемой психологией «инстинктов» (в Америке это течение лучше всего представляет Мак-Дугалл), потому что в этих «инстинктах» слишком много места отводится унаследованным склонностям. Аналогичным образом мы не можем согласиться с «обусловливанием» и «реакциями» бихевиоризма. Бесполезно конструировать судьбу и характер индивидуума из «инстинктов» и «реакций», если мы не понимаем цели, на которую все это направлено. А категорией «личные цели» не оперирует ни одна из этих школ психологии.
При упоминании слова «цель» впечатление у читателя, скорее всего, формируется весьма туманное, и это правда. Здесь следует уточнить саму идею. В наши дни иметь цель – значит стремиться уподобиться Богу. Но уподобиться Богу – это, конечно, высшая цель – самая главная цель из всех целей, если можно так выразиться. Педагогам следует проявлять благоразумие, пытаясь воспитать себя и своих детей так, чтобы уподобляться Богу. На деле оказывается, что ребенок, развиваясь, сменяет эту высшую цель более практической и актуальной. Дети ищут в своем окружении самую сильную личность и превращают ее в свою модель, выбирают в качестве своей цели. Это может быть отец, вполне возможно, что и мать, поскольку мы видим, что мальчик может подражать и матери, если она кажется самой сильной. А чуть позже они хотят стать кучерами, потому что считают самым сильным кучера.
Когда ребенок впервые ставит перед собой такую цель, он ведет себя как кучер, ощущает себя как кучер и одевается как кучер и приобретает все характерные особенности в соответствии со своей целью. Но стоит шевельнуть пальцем полицейскому, и кучер превращается в ничто… Позже в идеал может превратиться врач или учитель. Ведь учитель может наказать ребенка, тем самым он вызывает уважение, он – сильный.
При выборе цели у ребенка есть выбор конкретных символов, и оказывается, что выбранная им цель на самом деле является показателем его социальных интересов. Один мальчик, когда его спросили, кем он хочет стать, ответил: «Я хочу быть палачом». Такой ответ свидетельствует об отсутствии социального интереса. Мальчик захотел быть властителем жизни и смерти, а эта роль принадлежит Богу. Он захотел обладать большей властью, чем общество, и поэтому устремился к жизни бесполезной. Цель стать врачом также формируется через желание уподобиться Богу и быть властителем жизни и смерти, но в этом случае она реализуется через служение обществу.
Глава 2
Комплекс неполноценности
В практике индивидуальной психологии неверно использовать термины «сознательное» и «бессознательное» для обозначения отличительных факторов. Сознательное и бессознательное движутся вместе в одном направлении и не вступают – как часто считается – в противоречие. Более того, между ними нет четко выраженной границы.
Вопрос лишь в том, как обнаружить цель их совместного движения. Невозможно определить, что является сознательным, а что нет, пока не раскрыты все связи. Эта связь проявляется в прототипе, той жизненной модели, которую мы разбирали в предыдущей главе.
Иллюстрацией тесной связи между сознательной и бессознательной жизнью может послужить такая история болезни. Один женатый мужчина сорока лет страдал тревожным расстройством: хотел выпрыгнуть из окна. Он беспрестанно боролся с этим желанием, но в остальном чувствовал себя вполне недурно. У него были друзья, хорошая работа и счастливая семейная жизнь. Необъяснимый случай, если только не посмотреть на него с точки зрения взаимодействия сознательного и бессознательного. Сознательно он чувствовал, что должен выпрыгнуть из окна. Тем не менее он продолжал жить, а прыгать даже не пытался. Причина в том, что была и другая сторона его жизни, в которой борьба с желанием покончить с собой играла важную роль. В результате взаимодействия этой его бессознательной сущности с сознанием мужчина вышел победителем. По своему «стилю жизни» – если использовать термин, о котором мы в дальнейшем еще поговорим – он был победителем, который достиг своей цели и ощущал превосходство. Читатель может задать вопрос, как мог человек чувствовать превосходство, если он был сознательно склонен к самоубийству? Ответ заключается в следующем: что-то в его сущности боролось со склонностью к самоубийству. И именно успех в этом сражении сделал из этого человека победителя и сильную личность. Борьба за превосходство была объективно обусловлена его собственной слабостью, как очень часто бывает с людьми, так или иначе ощущающими свою неполноценность. Но важно то, что в его личной битве стремление к превосходству, стремление жить и побеждать пересилило чувство неполноценности и желание умереть… несмотря на то, что последнее выражалось в сознательной жизни, а первое – в бессознательной.
Давайте посмотрим, соответствует ли развитие прототипа этого мужчины нашей теории. Проанализируем его детские воспоминания. Как мы узнаем, в раннем возрасте у него были проблемы в школе. Он не любил других мальчишек и хотел от них сбежать. Однако он собрался с силами, остался и встретился с ними лицом к лицу. Иными словами, уже заметна попытка преодолеть свою слабость. Столкнувшись с проблемой, он победил.
Анализируя характер нашего пациента, мы увидим, что единственной целью в жизни было преодоление страха и тревоги. Для этого его сознательные мысли взаимодействовали с бессознательными, сливаясь в одно целое. Тот, кто не рассматривает человеческое существо как одно целое, может подумать, что этот пациент ни в чем не победил и успеха не добился. Он может посчитать нашего пациента всего лишь амбициозной личностью, который хотел сражаться и бороться, но по сути своей оставался трусом. Однако такая точка зрения была бы ошибочна, поскольку не учитывала бы всех фактов в истории болезни и не истолковывала бы их с учетом целостности человеческой жизни. Вся наша психология, все наше понимание или даже стремление понять индивидов были бы тщетными и бесполезными, если бы мы не могли быть уверены, что человеческое существо – одно целое. Допустив существование двух не связанных друг с другом сторон, было бы невозможно рассматривать жизнь как целостную единицу.
Помимо того, что мы анализируем жизнь человека как одно целое, мы должны также рассматривать ее в контексте социальных отношений. Когда ребенок только рождается, он еще слаб, и эта слабость вынуждает других людей о нем заботиться. Поэтому стиль жизни или жизненную модель ребенка нельзя понять без оглядки на людей, которые о нем заботятся и заглаживают эту его неполноценность. Переплетающиеся отношения ребенка с матерью и семьей невозможно понять, сведя анализ к его физическому существованию в пространстве. Личность ребенка распространяется на его физическую индивидуальность, она охватывает весь контекст социальных отношений.
Применимое к ребенку в определенной степени применимо и к людям в целом. Та слабость, из-за которой ребенок живет в семье (то есть в группе людей), сопоставима со слабостью, побуждающей людей жить в обществе. Все люди в определенных ситуациях чувствуют свое несовершенство. Их сокрушают жизненные трудности, и они считают, что не справятся с ними в одиночку. И потому одно из сильнейших стремлений человека состоит в том, чтобы образовывать группы, и жить как член общества, а не как отдельный индивидуум. Эта жизнь в коллективе, без сомнения, чрезвычайно помогла ему преодолеть чувство несовершенства и неполноценности. Известно, что схожим образом дело обстоит с животными, у которых более слабые виды всегда живут группами, чтобы совместными усилиями удовлетворять свои индивидуальные потребности. Как следствие, стадо буйволов может защищаться от волков. Для одного буйвола это оказалось бы невозможно, но в группе они сцепляются головами и дерутся копытами, пока не будут спасены. С другой стороны, гориллы, львы и тигры могут жить поодиночке, поскольку природа подарила им средства для самозащиты. Человек не обладает такой значительной силой, у него нет таких когтей и зубов, и поэтому он не может жить не в группе. Выходит, что социальная жизнь зародилась благодаря человеческой слабости.
Отсюда вытекает: нельзя ожидать, что у всех людей равные возможности и способности. Но справедливо устроенное общество не упустит возможность поддержать способности отдельных людей, это общество составляющих. Это важно понять, поскольку в противном случае мы бы полагали, что о людях нужно судить лишь по их врожденным способностям. В действительности, человек, у которого могло не быть определенных возможностей, если бы он жил в изоляции, в справедливо организованном обществе вполне может компенсировать свои недостатки.
Допустим, что наши личные недостатки унаследованы. Тогда цель психологии – научить людей удачно сосуществовать с другими людьми, чтобы уменьшить влияние природных ограничений. Вся история социального прогресса повествует о том, как люди объединялись и сотрудничали, чтобы устранять изъяны и преодолевать лишения. Всем известно, что язык – изобретение социума, но мало кто понимает, что в основе лежала свойственная индивидууму неполноценность. Правдивость этого утверждения прослеживается в поведении детей раннего возраста. Когда их желания не удовлетворяются, им нужно привлечь к себе внимание, и они пытаются сделать это, как-то выражая свои желания с помощью языка. Но если бы ребенку не нужно было привлекать внимание, он даже не пытался бы заговорить. Как, например, в первые месяцы после рождения, когда мать предоставляет ребенку все, что тот захочет, не дожидаясь его слов. Известны случаи, когда дети не разговаривали до шестилетнего возраста, потому что в этом не было необходимости. Это же мы наблюдаем и в ситуации с конкретным ребенком глухонемых родителей. Когда он упал и ушибся, он заплакал, но заплакал молча. Он знал, что издавать звуки бесполезно, ведь родители его не слышат. Поэтому он сделал вид, что плачет, чтобы привлечь внимание родителей, но не произносил ни звука.
Поэтому мы понимаем, что нужно анализировать весь социальный контекст изучаемых фактов. Нужно анализировать социальную среду, чтобы понять, какую конкретную «цель превосходства» выбирает тот или иной человек. А еще нужно анализировать социальную ситуацию, чтобы понять индивидуальную неприспособленность. Так, многие люди неприспособленны, потому что не могут нормально общаться с другими, используя язык. Наглядный пример тому – заика. Если мы проанализируем такого человека, то увидим, что с самого начала жизни он никогда не был социально приспособлен. Он не хотел участвовать в коллективной деятельности, друзья и приятели ему были не нужны. Чтобы его язык развивался, требовалось общение, а общаться он не хотел. Поэтому продолжал заикаться. У людей заикающихся есть две крайности: с одной стороны, он хотят общаться, а с другой, хотят, чтобы их никто не трогал.
В дальнейшем уже взрослые люди, которые мало общаются, не могут выступать на публике и склонны бояться сцены. А все потому, что считают: аудитория – это враг. Когда они сталкиваются с якобы враждебной и доминирующей аудиторией, у них возникает чувство неполноценности. Но факт в том, что человек может говорить хорошо, только если доверяет и себе, и своей аудитории. Только в этом случае у него не возникнет боязни сцены.
Получается, чувство неполноценности и проблема социального воспитания тесно взаимосвязаны. Как чувство неполноценности возникает из-за социальной неприспособленности, так и социальное воспитание является основным методом, с помощью которого мы все можем это чувство преодолеть.
Существует прямая связь между социальным воспитанием и здравым смыслом. Когда мы говорим, что люди решают проблемы с помощью здравого смысла, мы имеем в виду совокупный интеллект определенной социальной группы. С другой стороны, как мы отмечали в предыдущей главе, люди, говорящие на своем индивидуальном языке и руководствующиеся индивидуальным, субъективным пониманием, тем самым демонстрируют отклонение от нормы. К этому типу относятся душевнобольные, невротики и преступники. Мы видим, что некоторые вещи им не интересны: люди, общественные институты, социальные нормы их не привлекают. Тем не менее, именно эти вещи могут проложить им путь к спасению.
Наша задача при работе с такими людьми заключается в том, чтобы придать социальным фактам привлекательность. Люди с нервными расстройствами всегда чувствуют себя оправданными, если проявляют добрую волю. Но здесь требуется нечто большее. Нужно заверить их, что обществу важно именно то, что они фактически делают, что они фактически обществу дают.
Хотя чувство неполноценности и стремление к превосходству универсальны, было бы ошибкой рассматривать эту универсальность как факт, свидетельствующий о равенстве всех людей. Это общие условия, управляющие поведением людей, но помимо них существуют различия в физической силе, здоровье и окружающей среде. Именно поэтому люди в одних и тех же условиях совершают разные ошибки. Анализируя поведение детей, мы видим, что не существует однозначно установленной и правильной реакции. Каждый реагирует по-своему. Каждый стремится к лучшему стилю жизни, но все стремятся по-своему, совершая собственные ошибки и достигая успеха собственным путем.