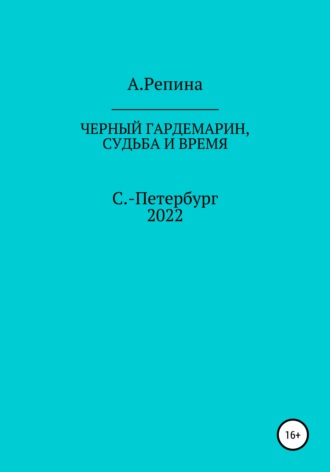
Алла Валерьевна Репина
Черный гардемарин, судьба и время
Слухи и вести из Петрограда
В Халилу из карантина в Териоках прибыла новая партия семейных беженцев. Мест в санатории уже нет и Красный Крест снял им комнаты в избах крестьян. Харчатся в столовой санатории.
Среди них я встретил инженера П., знакомого мне по Петрограду. Жену его вначале не узнал: прежде была толстушка и хохотушка.
Оба говорят, Петроград живет исключительно слухами: из советских газет ничего не узнать, даже погоды; переписка с заграницей и получение иностранных газет Смольным по-прежнему запрещены. При скудости реальных известий в городе сплошное богатство воображения. Одну неделю питерцев охватывает слух, будто вот-вот войдут англичане. В другую неделю, напротив, «самые достоверные» слухи о подходе немцев. В третью сообщают, что белые уже на Пулковских высотах и Смольный готовится к эвакуации в Москву, а наш Северо-Западный край отпускают из Советской России вслед за Финляндией.
Хороший, даже самый нелепый, слух пройдет – публика ходит с просветленными физиономиями. Кто на советской службе – сидит и трясется от страха: опять же слухи, якобы правительством будущей Русской Северо-Западной республики составлены расстрельные списки; де, в списках даже артист Шаляпин.
Инженер полагает, пакостные слухи о кровожадности белых распускают сами большевики, чтоб еще более запугать петроградцев.
Говорят, в петроградской публике в целом смятение.
Жена инженера: «Никто ничего не понимает! Никто. Что делать? Ждать белых или устраиваться самостоятельно? Лично я никого не осуждаю; нет, никого!».
Дамы беженки травят друг дружке душу – тяготами петроградского быта: водопустные дни сократили до двух в неделю, мытье белья роскошь, химические чистки одежды закрыты; некоторые жильцы вовсе не топят ни единой комнаты в квартире: во дворах теперь щепки не найдешь, скамейки в парках и заборы окончательно разобраны на дрова; дошло до того, что ломают мебель и жгут старые книги. Повсюду в Петрограде нечистоты, в парадных запах отхожего места; публика панически боится повторения летней холеры 1918 года. Петроград – во всех смыслах угроза жизни, а Смольный в управлении городом ни на что не способен, кроме как на умножение своих штабов, контор, подотделов и совслужащих – в геометрической прогрессии…
Офицеры решили организовать концерт в пользу новоприбывших беженцев. Обсудив программу, сошлись на старинных песнопениях русского воинства, при том дав зарок более не вопить «Вещего Олега», от которого стонут уже и сами стены санатории.
Теперь за стеной репетируют:
Помню, как в корпус, в путь далекий,
мать провожала меня:
«Сын мой, учися, молись за царя», –
так повторяла голубка моя.
«Будь государю ты верным слугой,
Твердо за веру, за родину стой.
Смерть за отчизну завидная доля», –
Так говорил отец мой родной.
Кадетский марш. Само собой, нахлынули и следующие лирические воспоминания. Первый кадетский корпус и первый день в корпусе! 1909 год, 15-е число августа…
Часть II
Первый кадетский корпус
Рассадник великих людей
По нотам старинного кадетского марша – учись, молись, будь слугою Государю – и разыгрывалась в нашем семействе сцена провожания сынка Павленьки в корпус. С заменой одной подробности: путь до корпуса далеким не был. От нашего дома у Калинкина моста через Фонтанку – на Васильевский остров, на другой берег Невы на трамвае – всего около получаса.
Итак, 15 августа 1909 года. Раннее утро. Трамвай уже подъезжает к корпусу: дворцу Меншикова и тянущимся за ним низким зданиям Кадетской линии – неужели я отправляюсь сюда на долгие годы?
В Сборном зале Первого кадетского корпуса собираются новички – «зверье», или «молодые», как нас называют старые кадеты. Озираясь и хватаясь то за платье матери, то за руку отца, новички исподлобья смотрят друг на друга. По манерам новичков сразу можно различить их характеры: кто похрабрее, тот не жмется около провожатого, а смело шагает между публикою, которая все прибывает.
Здесь и генералы в полупарадных формах, с толстенькими и тоненькими сыновьями; здесь крикливые молодые поручики с братьями; наши бледные мамаши в аршинных шляпах, не сводящие глаз со своих ненаглядных сынишек. Изредка попадается высокий, как шест, гимназист с белым воротничком на шее – это поступающий в старший класс.
С лицами, искаженными от непреодолимого волнения, «звери» испуганно смотрят на каждого проходящего кадета, желая, чтобы кадет обратил на него свое внимание; но кадет спокойно проходит мимо и идет своей дорогой, а «молодые» рассматривают каждый предмет в зале, в котором, может быть, им придется провести все семь лет.
Но вот среди толпы появляются три офицера с большими, исписанными фамилиями, листами. Они расходятся по углам и начинают вызывать: «Иван Никитин», – раздается в одном углу. «Сергей Попов», – слышится в другом. «Георгий Гаврилов», – доносится из третьего.
Несмело, с трудом отрывая руку из рук родителей, отходят вызываемые в круг. Наконец чтение окончено и новичков строят в ряды, но ряды неправильны и неравномерны: то тут, то там видно толстенькое брюшко новичка.
«Молодых уже строят», – слышно со стороны двух кадет, проходящих по залу.
Теперь отворяются двери из рот и правильные колонны кадет входят в зал.
Между тем офицеры, принимающие новичков, объясняют им, что когда войдет генерал и поздоровается, следует отвечать: «Здравия желаем, ваше превосходительство».
Корпус выстроился. Испуганно, с круглыми от волнения глазами, смотрят «молодые» на гордо стоящих кадет. Папеньки, маменьки, сестры и братья новичков также смотрят на красиво выстроенных колоннами молодцов, на левом фланге которых стоят полуразбитые взводы новичков.
Наконец раздается команда и старый, седой, но еще бодрый старик-директор входит в зал. Новички, как загнанные зверьки, смотрят на директора. Улыбаясь, он обходит строй и здоровается поротно.
«Здравия желаю, ваше-ство», – ухарски отвечают кадеты.
Маменьки наши со слезами смотрят на старших кадет, думая, что, может быть, и их сынишки станут такими же молодцами…
«Здравствуйте, дети!» – подходит к левому флангу директор.
«Здравствуйте, здраю желаю, здраю поживаю», – расшаркиваются новички, начисто забыв наставление офицеров. Старшие кадеты не могут сдержать улыбок.
Директор приказывает приступить к молебну.
Священник, седой и худой, подвижный старичок, говорит корпусу длинную речь о новых успехах, а к новичкам обращается с напоминанием о том, как трудно было им поступить, выдержать экзамены, и как они теперь должны стараться. Новички, потупя головы, слушают умные слова священника.
Начинается молебен. Громко, отчетливо поют певчие. Громко звучит ектения: «Подай, господи; подай, господи»…
Кончился молебен, роты по очереди расходятся.
Матери, сестры и братья наперерыв бросаются прощаться с сыновьями и братьями: на глазах многих слезы. Новичков поворачивают и уводят в роты. Родители уныло смотрят вслед уходящим любимцам.
Новички входят в небольшой ротный зал. Пожилой ротный командир Звеньев дает приказания.
«Строиться», – выкрикивает он.
Старые кадеты начинают сходиться. Новички, смотря на них, тоже строятся. Проходит ранжир, небольшое учение, и кадет распускают.
Новички, как испуганное стадо, шарахаются в сторону. Лишь один новичок спокойно отходит. Это мальчик лет 11-ти, одетый в куртку и широкие брюки. Светло-русые волоса коротко подстрижены, полные щеки пылают румянцем, аккуратный нос довершает лицо. Засунув руки в карманы, он идет осматривать картины, тогда как его товарищи, столпившись, искоса поглядывают друг на друга.
«Зверь, как ваша фамилия?» – подлетает к нему высокий вихрастый кадет.
«Гаврилов», – важно отвечает новичок. В этот момент раздается пронзительный, дребезжащий звук колокольчика, и новичок, назвавшийся Гавриловым, так и приседает, зажав уши.
Раздается команда; кадеты опять идут строиться. Новички также, смотря на кадет, встают на свои места, вытянув шеи. Выбирают старших по столам и наша 4-я рота отправляется завтракать.
Не стоит говорить о том, как шла 4-я рота, но надо упомянуть, что остальные роты помирали со смеху, увидя ее. Когда она пришла и села за столы, то… О, бедные старшие по столам! Их уши наполнились целыми потоками криков. От всех новичков один вопрос: все ли надо есть, что дадут, и нельзя ли просить порцию меньше? Кто-то переспрашивает фамилию старшего.
«По очереди, господа, – говорит старший, – не все сразу».
От этого шум только увеличивается, так как всякий хочет говорить первым. Старший зажимает уши и приказывает молчать, но новички с новой яростью начинают свои требования, пока старший не обходит всех новичков и не заставляет молчать.
Кончается завтрак и новичков пускают на плац. Снова, как стадо овец, ходят они, знакомясь между собою. Погода дивная. Осень хотя и глянула сюда, но от желтых листьев трава на плацу зеленеет еще ярче.
Новичков зовут на фотографирование. Снимает учитель рисования господин Развольский. Мы шумно и бестолково размещаемся на ярусах скамей. Внизу 1-я рота Его Величества (в нее зачислен наследник цесаревич); выше остальные роты; наша 4-я наверху.
Этот фотографический снимок, конечно, остался в Петрограде, но он у меня и сейчас перед глазами. Разнокалиберная толпа «ненаглядных сынишек» в матросках, курточках, фуражках и беретах; мальчики обуты в лакированные ботиночки; кудри и вихры выглядывают из-под головных уборов. Через час «зверьки» сменят детское платье на кадетскую форму, наденут строевые сапоги, нам сделают одинаково короткие стрижки.
Первый урок будет историко-патриотическим. Учитель заведет долгую речь:
«Корпус – рассадник великих людей. Стены корпуса знали Сумарокова, Озерова, Хераскова, Суворова, Голенищева-Кутузова и Лескова. В корпусе учились и учатся августейшие кадеты. Наравне со всеми делил общий кров и труды кадетской жизни его высочество князь Иоанн Константинович. В этот учебный год государь император зачислил в списки первого класса его высочество наследника цесаревича. Мы обязаны быть достойны сего знака монаршего благоволения. Для августейшего кадета имеется особое символическое место в классе, в столовой и в спальне; убедительная просьба соблюдать дистанцию, не прикасаться к предметам наследника. Депутация от корпуса имела счастье поднести августейшему кадету полное кадетское обмундирование, в ящике кадетской работы. Кадеты 7-го класса составили марш «Августейший кадет», посвященный его императорскому высочеству. Марш высочайше повелено всегда играть в присутствии его императорского величества…».
Публика наша, не ведающая дисциплины, начинает переговариваться меж собой.
«Тише, господа, – приказывает отделенный офицер-воспитатель, поручик Беленков. – Тише!».
Шум от этого лишь громче.
«Тише!» – а с нашей стороны ноль внимания.
«Бемоль!» – вдруг тонко выкрикивает Беленков.
Неожиданная постановка вопроса производит впечатление. Мы затихаем, а Беленков, первым из учителей и воспитателей, получает от нас свою кличку: «Бемоль». Через неделю-другую «Бемоль» естественным порядком превращается в «Бельмо» – к тому располагает белесая остзейская внешность поручика Беленкова.
По окончании уроков первого дня нам распределяют места в ротной спальне. Спальня пугает новичков огромным размером, уходящими вдаль рядами кроватей и в целом спартанской обстановкой. Кровати составлены изголовьями по четыре, застланы тонкими байковыми одеялами; в ногах табурет для верхней одежды; у стены вешалка для полотенца и фуражки. Спрашиваем служителя: куда ставить сапоги? Отвечает: ставьте, господа, под кровать.
Как тут не загрустить о домашнем очаге?
Заснуть в первый вечер не представляется возможным. С фланга старших кадет доносятся храп, сопение, бормотание; наша «четверка» переговаривается громким шепотом. Мы на «ты» еще с фотографирования.
«А ты в ночное за рыбой ходил?» – громко шепчет мне кадет Гаврилов.
«Ходил».
«А у нас в этом году в озере рыбы совсем не было!».
«Совсем?» – «Ну да. Прошлой зимой рыба вся перемерла: мужики не сделали во льду прорубей. Зато купались мы по шести раз в день и даже больше».
«А у нас имение в Новгородской, в Боровичах, – встревает мальчик из-за изголовья, – я с тетками в лес за грибами ходил».
«А теремки у вас в Боровичах есть?» – это четвертый голос, он принадлежит маленькому тоненькому мальчику, который был в Сборном зале со старшим братом поручиком.
«В Боровичах теремков нет. Там деревушки совсем жалкие: избы крыты соломой с глиной или хвоей».
Мы с Гавриловым подтверждаем: теремки – выдумка.
Тоненький мальчик вздыхает: «А я с маменькой летом в Неаполе был».
Воцаряется молчание.
«Купался. Морские звезды собирал. Везувий видел».
«Ух, ты!».
«Ужас, какой он страшный!» – сообщает мальчик очевидец Везувия. Мальчика зовут Жондецкий 2-й.
«Зверье» и зверская дисциплина
Как звали кадета из Боровичей, мне не запомнилось. Его вскоре отчислили за некую детскую шалость. Первый кадетский корпус – привилегированное учебное заведение империи, рассадник великих людей – всегда славился зверской дисциплиной.
Утром бегом в умывальню: раздеться до пояса, облиться водой над длинным желобом. Бемоль подгоняет: «Суворов купался в пруду, пока лед не встанет! В здоровом теле здоровый дух! Раз-два, облился; подходи следующий!». Вода холодная, льется в умывальник с резким звуком; полотенце жесткое…
Бемоль выстраивает «зверье» на утренний смотр перед завтраком и давай придираться: ногти грязны, уши нечисты, на лбу чернила, у рубахи неправильно заложены складки под ремень, бляха вычищена неровно, и т.д. Сам он, не так давно окончивший корпус, ужасный аккуратист. Мы быстро подмечаем его слабость к собственному внешнему виду и за спиною передразниваем, как он подправляет указательным пальцем свои тонкие усики.
Бемоль идет вдоль строя, заложив руки за спину, и потягивает носом. Приметив запах, делает резкий разворот в сторону провинившегося: «Не-о-пря-тен!».
«Зверьков» окультуривают и пропалывают как дикий заросший сад.
Проходит август, тянется сентябрь, наступает слякотный октябрь… Какая перемена! И следа не осталось от восторга первых дней в корпусе. Все вокруг темно, сурово, холодно. На уроках, особенно первых, хочется спать. На втором и третьем донимает сосущее в животе чувство голода.
Закон божий, грамматика, французский, арифметика, естественная история, рисование, чистописание – хотя и репетировал все предметы первого класса заранее, в корпусе спотыкаюсь на французском. За четверть «август-октябрь» получаю шесть баллов по французскому и выволочку от папы. Двенадцати баллов нет ни по одному предмету, а средний вывод за четверть всего 9. Оценка поведения также не блестяща. Нарекание: рисую на уроках. С рисованием связано первое лишение отпуска. У кадет, как известно, два главных воспоминания из младшего возраста: первый опыт отдавания чести и первое оставление без отпуска.
Шестое число каждого месяца в Первом кадетском – день музеев и экскурсий; в первую половину дня классы расходятся по городу. У Бельма интрига: не сообщать заранее, куда пойдем.
6 ноября девятого года мы одеваемся после завтрака в зимние бушлаты, строимся и выходим на набережную; идем к Николаевскому мосту, про себя гадая, куда ж нас ведут. На Неве в это время ледоход, одна льдина набегает на другую, а потом эти льдины разбиваются об устои моста. Ветрено. На перилах моста и под ногами чистенький, только что выпавший снежок.
Бельмо ведет нас в Александровский сад, где разрешает разойтись, при условии далеко от него не отходить. Мы, довольные, бегаем по саду среди нянек с малыми детьми и лупим снежками в постаменты памятников великим людям отечества: Пржевальскому, Жуковскому, Лермонтову, Глинке и Гоголю. Морозно и весело. Сама прогулка – глоток свежего воздуха в унылой череде будней. Набегавшись по саду, отправляемся осматривать Исаакиевский собор. После Исаакия идем любоваться памятниками императорам Петру Первому и Николаю Первому. Время наше выходит, пора возвращаться в корпус.
На обратном пути, идя по Английской набережной, мы видим плывущую в Неве утку и так нам жалко на нее смотреть: кажется, что вот сейчас ее затрет льдом! Весь Николаевский мост и всю набережную говорим только об этой утке; и за обедом тоже об утке: выплывет или нет? Среди кадет есть не раз ходившие с отцами на утиную охоту, однако и тем жаль крякву.
Первый урок второй половины дня – грамматика. Я, не слушая учителя, рисую на листочках несчастную утку среди льдин. Вначале кадет Гаврилов рисунок увидел – потребовал себе такой же. Затем попросил кадет Жондецкий 2-й. На третьем рисунке я был остановлен учителем.
Так, из-за этой уточки, и лишился отпуска в первый раз.
«В следующий раз, кадет Репин, вы будете зачислены кандидатом на арестование. При наличии свободных мест в карцере, – Бельмо отчитывал меня с видимым удовольствием. – Недопустимо поощрение расхлябанности. Расхлябанность начинается с проступка и завершается преступлением. Для вас, кадет Репин, недостижимым будет оказаться на высоте положения доблестного офицера, защитника царя и отечества, честного и справедливого гражданина своего государства, если вы уже в младшем возрасте пренебрегаете установленными правилами. В послеобеденный отдых такого-то числа вы ложились на кровать в сапогах. Затем, вы регулярно изливаете свою фантазию в сочинение самых невероятных историй и стихотворений, а также в рисунки – на то и другое тратите много времени, что идет в ущерб занятиям, – у Бельма на каждого составлен лист проступков, который он и достает из особой штрафной папки, вызывая кадета в свое помещение. – Ваш балл по французскому делает вас кандидатом на отчисление из казеннокоштных: средний годовой вывод может не дотянуть до восьми».
Далее Бельмо лупит в цель:
«Подумайте о родителях, которым доставят боль ваши неприятности личного свойства. Отец ваш в весьма преклонном возрасте. Своим трудом содержит довольно большую семью. Вы росли в трудовой атмосфере. Я понимаю, если б вы были избалованы роскошью и богатством, которыми часто окружают детей, поступающих в корпус…», и проч.
Лишившись отпуска, я слонялся по корпусу с теми несколькими мальчиками младшего возраста, которым было не к кому идти в Петербурге. Отчего-то забрел в умывальню для старшего возраста. Там в форточку курил кадет Дмитрий Колпинский – в этот учебный год он был назначен редактором корпусного журнала «Кадетский досуг».
«Зверь, как ваша фамилия?» – он обернулся ко мне.
«Репин».
«Не к кому пойти? Или без отпуска?».
«Без отпуска».
«Отчего?».
«Рисовал на грамматике».
«Что?!».
«Уточку».
Кадет расхохотался:
«Зверь, напишите мне вашу историю для журнала. Репин занимался художествами, за что и был наказан. Забавно».
Уточнив, когда приходить с рукописью, я спросил, можно ли позвать с собой товарищей, которые тоже сочиняют. Ведь Гаврилов и Жондецкий 2-й просто мечтали опубликоваться в «Кадетском досуге» да не знали, как подступиться к молодцеватому Колпинскому – одному из самых блестящих кадет корпуса.
Вот так фортуна и подбрасывает нам счастливые карты.
Первые встречи с Государем
К Колпинскому я еще вернусь. Пока же (и это не менее важно) завершу тему рисования.
Все тот же первый год в корпусе. Окончена вторая четверть. Рождественские каникулы, елки в домах новых товарищей, цирк – после я слег с лихорадкой, едва проучившись в третьей четверти пару дней. Зимние каникулы всегда Петербурге рассадник заразы, ворчал старый доктор в лазарете, добавляя, что не мешало б их взять да навечно отменить.
Скучней лазаретной палаты Первого корпуса только Халила. Стертый шашечный пол, коричневая полоса краски на треть стены понизу, жаркая кафельная печь, овальный обеденный стол, над ним огромный образ-картина «Спаситель, благословляющий детей» – дар корпусу от Государя; полосатые чехлы на спинках кроватей и таблички с именами кадет на стене, над изголовьем.
Как-то однажды будят – в лазарете полундра. Кадет выдергивают из дремоты, меняют одежду, дают неношеные куртки с белыми отложными воротниками. Мне несут планшет, бумагу, грифели: рисуйте, Репин. Что рисовать? Копируйте, господин кадет, Христа с детьми.
Это было в конце января 1910 года – в день высочайшего посещения корпуса нашим державным шефом, его императорским величеством Государем. Я, признаться, впал в оцепенение: сейчас я первый раз в жизни увижу Того, пред Которым преклоняются все народы необъятной России, Того, выше Которого, кроме Всевышнего – нет никого…
В коридоре послышались шаги, тихие голоса. В сопровождении директора корпуса вошел Николай. Он был в сюртуке нашего корпуса, с юбилейным нагрудным знаком. Лицо его выражало то особое благодушие, которое встречаешь только у очень добрых людей.
Государь обошел всех кадет; каждого расспросил об отце, о месте родины. Настал мой черед. Не помню, что я к этому времени успел скопировать (государь в работу не заглядывал). Он посмотрел на меня, на табличку над головой; мягко улыбнулся. Задал вопрос об отце, я ответил.
Далее государь изъявил желание сняться с находящимися на лечении в лазарете кадетами; фотографический снимок был сделан учителем рисования господином Развольским.
Надо ли говорить о том, что к вечеру того же дня почти весь лазарет выздоровел: всем нам не терпелось рассказать товарищам, как и о чем мы говорили с царем; а также узнать у них подробности посещения государем корпуса!
В ротах мы почти никого не застали: государь, довольный блестящим состоянием корпуса, повелел отправить кадет в отпуск на 3 дня. Дежурный воспитатель сообщил, что в прощальном приветствии корпусу в Сборном зале государь сказал, обращаясь к директору: «Через три недели ко мне в Царское».
Это означало, что 17 февраля, в день нашего корпусного праздника, для нас будет устроен смотр в Царском Селе.
Незабываемый день: парад нашего корпуса в высочайшем присутствии в Царском Селе 17-го февраля 1910 года. Я во второй раз увижу государя…
Накануне была основательная баня. Встали в пять утра. Бемоль придирчиво осмотрел всех перед чаем. После чая быстро оделись в парадную форму, построились в ротном зале. В семь часов уже стояли на улице: вынос знамени. Раздается команда: «Слушай – на – краул!», выносят знамя.
Строем идем на Царскосельский вокзал, не замечая метели и бьющего в лицо мелкого колючего снега. В поезде тридцать верст, отделяющие Петербург от Царского, пролетают незаметно. В Царском нас встречает оркестр стрелкового батальона. Бодро проходим длинный путь от вокзала, хоть он и труден по снегу – в гору.
Входим в манеж. В манеже гомон, запах пота: кадеты скинули шинели. Нам на скорую руку дают чай и бутерброды с котлетой. Нас торопят: уже приехал великий князь Константин Константинович, главный инспектор военных училищ. Построились; великий князь поздоровался с каждой ротой отдельно, поздравил нас с корпусным праздником. Раздается команда «Слушай – на – краул!»: в манеж входит государь, ведя за руку наследника цесаревича. Малютка наследник в форме кадета нашего корпуса.
Государь отдельно здоровается с музыкантами, поздравляет их с корпусным праздником; после произносит те же приветствия всем нам.
Выходят вперед певчие и начинается торжественный молебен. После молебна мы идем церемониальным маршем мимо государя. Выстраиваемся полуротными колоннами. Государь говорит нам, что он очень доволен нашим молодецким видом и блестящим состоянием корпуса и выражает надежду, что он и впредь будет видеть нас такими же. Следует громкое ура полной грудью.
Директор провозглашает здравицу, и, под восторженные крики кадет, государь отбывает из манежа, а мы, надев шинели внакидку, отправляемся в Большой Дворец на завтрак.
На завтраке с нами государь. Он обходит кадет, многим задает вопросы. Еще раз благодарит нас за блестящий смотр и молодецкую выправку.
Через час мы покидаем дворец и идем через дворцовый парк на вокзал. На крыльце дворца стоят государь, императрица, наследник и великие княжны. Мы идем мимо них и кричим во все глотки ура.
Барышни великие княжны смеются, каждая машет нам рукой…
По дороге к вокзалу слышим сзади окрик: «Вправо!».
Берем вправо – мимо несутся розвальни; в розвальнях наследник в русском тулупе, с бонной и казачком. Ура не смолкает. Розвальни скрылись из виду, а мы продолжаем и продолжаем кричать наш восторг полной грудью…
Тем же порядком возвращаемся в корпус. Строем по Петербургу идем с такими радостными физиономиями, что, верно, всякий прохожий догадывается: эти молодцеватые кадеты только что от царя.


