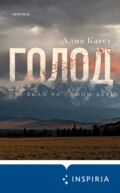Алма Катсу
Глубина
Посвящается памяти
душ, погибших во время трагических крушений
«Титаника» и «Британника»
Alma Katsu
THE DEEP
Copyright © 2020 by Glasstown Entertainment LLC; and Alma Katsu
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with G.P. Putnam’s Sons, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Перевод с английского Ксении Гусаковой

© К. Гусакова, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Падение на миг кажется чем-то совершенно иным – кратким, безумным проблеском свободы.
Но поверхность является слишком быстро, разбиваясь вдребезги о ее кожу пеленой стекла, вышибая из легких воздух. Или, может, это разбилась она сама. Она уже словно и не человек вовсе, не цельное существо, а летящие сквозь тьму фрагменты. Жжение в легких становится невыносимым; разум прекращает сопротивляться, уступая место боли.
Сквозь холод приходят странные мысли: здесь нет красоты.
Такая малость – и нежданное утешение.
Однако тело жаждет своего: прошу, умоляет оно. Тело начинает бороться, взгляд устремляется к скудному звездному свету вверху, уже такому далекому. Кто-то однажды сказал ей, что звезды – это лишь булавки, которые удерживают черное небо, дабы оно не рухнуло на мир и не удушило его. Краткое спокойствие сменяется паникой. Ее захватывает страшное, неудержимое желание – не жизнь взывает к ней, требуя попытаться еще раз, но любовь. Мы все заслуживаем второй шанс. Мысль возникает как будто не внутри, но вокруг нее, пусть течения утягивают все глубже, пусть холодный туман окутывает разум.
Поверхность остается совсем далеко, непостижимая, недосягаемая. Холод повсюду, он давит, умоляет его впустить.
Я дам тебе еще один шанс, будто бы шепчет вода. Я заставлю все уйти, только впусти.
Обещание. Волны уже не тянут вниз, они обволакивают объятиями, ожидая ответа.
Она все-таки открывает рот. Вода врывается внутрь, становясь ответом.
1916
18 сентября 1916 г.
Ливерпуль,
Лечебница Морнингейт
К сведению главного врача
Любезный сэр,
пишу в надежде, что вы посодействуете в крайне деликатном вопросе.
Четыре года назад моя дражайшая дочь Энни неожиданно исчезла из нашего дома в деревушке Баллинтой. С тех самых пор мы с женой без устали ее разыскиваем. Мы наводим справки в больницах и оздоровительных учреждениях, ведь в последний раз видели нашу дочь не в себе от пережитого – и, быть может, в то время недооценили глубину ее скорби. Начали с заведений поблизости, в Белфасте, и Лисберне, и Бангоре, однако, когда обнаружить ее не удалось, мы постепенно расширили круг и в конце концов пересекли Ирландское море и добрались до Ливерпуля.
Мы написали в пятьдесят пять больниц. Когда удача нам так и не улыбнулась, появилась мысль включить в поиски и заведения вашего профиля. С самого детства наша Энни крайне подвержена чувствам, присущим всем представительницам ее пола. Сии чувства, однако, способны быть как благословением, так и проклятием: женщина без оных качеств станет воистину холодным и бессердечным существом, но нет ничего хорошего и в том, когда любовь обуревает безо всякой меры. Как отец, я временами невольно жалею о том, что не нашел способа усмирить сие качество моей дражайшей Энни.
И посему пишу вам, любезный сэр, вопрошая, нет ли среди пациенток вашего учреждения женщины, подходящей под описание моей Энни. Ей стукнуло уже двадцать два, в ней пять футов шесть дюймов роста. Застенчивая, тихая девушка, способная прожить неделю, не промолвив и словечка.
Молюсь, чтобы вы сумели покончить с кошмаром, во власти которого мы пребываем, и вернуть нам нашу Энни. Да, в двух словах: она сбежала из дома, где мы ее холили, но подозреваем, что дело исключительно в ее страхе перед осуждением. Прошу, сэр, знайте, мы занимаемся этим вопросом, не привлекая закон, дабы уберечь частную жизнь и достоинство Энни. Молю вас о молчании. Полагаю, при вашей работе вам доводится встречать изрядное количество женщин в сходной ситуации.
Энни – наша единственная дочь, и несмотря на ее наклонности, ее слабости, несмотря на что угодно, что она могла сотворить, мы горячо ее любим. Передайте ей, что братья еженощно молятся о ее возвращении, что комната остается нетронута с тех пор, как Энни ее оставила, в надежде, что мы вновь примем ее в объятия любящей семьи.
С уважением,
Джонатан Хеббли
Община Баллинтой, графство Антрим, Северная Ирландия
25 сентября 1916 г.
Уважаемый господин Хеббли,
я получил ваше трогательное письмо касательно вашей дочери Энни в прошлую пятницу. Не могу не сочувствовать вашей беде, однако с сожалением должен сказать, что помочь не способен.
Закон о невменяемости 1890-го привел к множеству изменений в ограничениях правового характера, действующих для учреждений, подобных Морнингейту. Закон вынуждает ввести невиданные доселе меры, призванные, по моему мнению, скорее защитить заведение от ложных судебных претензий, нежели послужить на благо больных. Здесь, в Морнингейте, эти меры распространяются и на защиту частной жизни наших пациентов. Посему, при всем уважении, вынужден вам отказать. Речь, видите ли, идет о сохранности личного пространства больных, которые зачастую немало страдают от предрассудков общества в отношении тех, кто подвержен расстройству нервов и разума.
Прошу, не сочтите сей ответ ни подтверждением, ни опровержением присутствия вашей дочери в Морнингейте. Будучи управляющим сего учреждения, я обязан подчиняться закону.
Ваш покорный слуга,
Найджел Давенпорт
Главный врач, лечебница Морнингейт
Байшор-Мьюз, Ливерпуль, Англия
Глава первая
Октябрь 1916 г.
Ливерпуль
Лечебница Морнингейт
Она не безумна.
Энни Хеббли втыкает иголку в грубую ткань серого цвета, нежного, подобно оперению голубей, что застревают в местных дымоходах, бьются там и кричат, и временами расшибаются насмерть в тщетной попытке высвободиться.
Она не безумна.
Взгляд Энни следует за иголкой, снующей то внутрь, то наружу вдоль края ткани. Внутрь и наружу. Внутрь и наружу. Острая, блестящая, идеальная.
Но в ней есть нечто, привлекающее безумие.
Энни начала понимать беспорядочные поступки сума-сшедших – приступы рыданий, бессвязное бормотание, не-истовые размахивания руками и ногами. За долгие дни, недели, годы в них появляется некий умиротворяющий ритм. Но нет, она не одна из них. Это ей предельно ясно.
Ясно как Господь и Дева Мария, как сказал бы папа.
Над шитьем трудится еще дюжина пациенток, отчего в комнате тепло, даже душно, несмотря на скудный огонек в камине. Труд якобы временно облегчает нервные расстройства, и посему столь многие обитатели получают работу, в особенности те, кто здесь скорее по причине собственной нищеты, нежели из-за некоего недуга как разума, так и тела. Большинство нуждающихся держат в работных домах, однако Энни обнаружила, что довольно многие умудряются пробраться в лечебницы, как только освобождается койка. Не говоря уже о падших женщинах.
Какие бы причины ни привели их в Морнингейт, большинство женщин здесь довольно кротки и покоряются воле медсестер. Однако есть некоторые, кого Энни по-настоящему боится.
Она съеживается во время работы, не желая даже мимолетно их касаться, не в силах избавиться от подозрения, что безумие способно передаваться от человека к человеку, как обычная зараза. Что оно зреет, словно споры плесени в забытой на солнце бутылке молока. Сначала незаметно, но вскоре прокисает и портится все молоко.
Энни сидит на жестком стульчике в швейной, держа на коленях свою работу на утро, но письмо, спрятанное в кармане, то и дело против воли всплывает в мыслях, словно тлеющий уголек, жжет сквозь льняное платье. Энни узнала почерк еще до того, как увидела имя на конверте. Она перечитала письмо с дюжину раз, не меньше. Под покровом ночи, когда никто не видит, она целует его, будто распятие.
Словно притянутая греховностью ее мыслей, у плеча возникает сестра милосердия. Энни задается вопросом, сколько же она уже стоит там и смотрит на нее. Эта сестричка новая. Она еще не знает Энни – вернее, знает, но плохо. Энни всегда оставляют на новеньких, которые пока не научились ее бояться.
– Энн, милая, тебя хотел бы увидеть доктор Давенпорт. Я отведу тебя в его кабинет.
Энни поднимается со стула. Ни одна из женщин не отрывает взгляда от шитья. Сестры никогда не поворачиваются к пациентам Морнингейта спиной, так что Энни волочит ноги по коридору, и присутствие сопровождающей подталкивает ее, будто раскаленная кочерга. Если бы Энни удалось улучить миг, она бы тут же избавилась от письма. Бросила бы за шторой, сунула бы под ковровую дорожку. Нельзя, чтобы его нашел доктор. Ей так стыдно даже подумать об этом, что мурашки бегут.
Но в Морнингейте Энни не бывает одна.
В пыльном отражении коридорных окон они кажутся парой призраков – Энни в сизой больничной пижаме и сестра в длинной кремовой юбке с передником и в головном покрывале. Мимо долгой череды запертых дверей, палат, где бормочут и воют больные.
О чем они кричат? Что их так терзает? Для некоторых это джин. Других сюда отправили мужья, отцы, даже братья, которым не нравится, как их женщины мыслят, что они не скрывают своих убеждений. Но настоящих безумцев Энни сторонится, не желая узнавать их судьбу. Там, несомненно, предостаточно несчастий, а в жизни Энни и без того хватает печали.
Само здание большое, путаное, его в несколько этапов перестроили из старого склада Ост-Индской компании, который закрылся в 1840-х. Во дворе, где женщины по утрам делают зарядку, на стенах красуются потеки пота и слюны, отпечатки ладоней, бурые пятна крови. К счастью, газовые лампы светят совсем тускло экономии ради и придают грязи приятный теплый оттенок.
Они проходят мимо мужского крыла; иногда из-за стены доносятся голоса, но сегодня там тихо. Мужчин и женщин держат раздельно, потому что среди последних есть те, кто страдает от особого нервного расстройства, от которого у них вскипает кровь. Такие женщины не выносят вида мужчины, сразу начинают трястись, срывать с себя одежду, прокусывать собственный язык и падать в конвульсиях.
Так говорят. Сама Энни еще ни разу не видела. Тут любят поговорить о пациентах, особенно о женщинах.
Но здесь Энни в безопасности от огромного мира. Мира мужчин. Вот что главное. Маленькие помещения, узкие каморки не слишком отличались от старого дома в Баллинтое с четырьмя крошечными комнатками и бушующим в каких-то двадцати шагах от двери Ирландским морем. Здесь, во дворе, воздух тоже пропах солью, но даже если вода и рядом, Энни ее не видит – не видела уже четыре года.
Это одновременно и утешение, и проклятие. Бывают дни, когда Энни просыпается от кошмаров, где черная вода хлещет в открытый рот, обращает легкие в холодный камень. Океан глубок и безжалостен. Сколько она себя помнит, семьи в Баллинтое теряют в море отцов и братьев, сестер и дочерей. На ее глазах воды Атлантического океана были завалены сотнями тел. Это больше, чем похоронено на всем кладбище Баллинтоя.
И все же есть другие дни, когда Энни просыпается – и у нее под ногтями штукатурка со стен, которые она скребла, отчаянно пытаясь выбраться наружу, вернуться к нему. Ее кровь бурлит в такт морскому прибою. Энни жаждет попасть к нему.
Они пересекают двор и входят в маленький вестибюль, ведущий к кабинетам докторов. Сестра знаком просит Энни отступить, а сама стучит и, получив команду войти, отпирает дверь в кабинет доктора Давенпорта. Тот поднимается из-за стола и указывает на стул.
Найджел Давенпорт молод. Энни он нравится; он, ей кажется, заботится о благополучии своих пациентов. Она однажды подслушала разговор медсестер, как трудно приходу заставить докторов оставаться в лечебнице. Такая работа их удручает – слишком уж мало больных поддаются лечению. Да и быть врачом общей практики куда выгоднее, вправлять кости да принимать роды. Доктор Давенпорт всегда к ней добр, пусть и официозен. Завидев Энни, он всякий раз вспоминает о том случае с голубем. У всех так. Как ее однажды нашли с мертвой птицей в руках, которую она качала, словно ребенка.
Энни знает, что это не ребенок. Просто голубь. Он рухнул из дымохода в очаг, взметнув опавшие перья. Грязная, покрытая сажей птица – и все же в своем роде красивая. Энни всего лишь хотела ее подержать. Подержать в руках что-то свое.
Давенпорт складывает на столе руки. Энни смотрит, как переплетаются его длинные пальцы. Гадает – сильны ли они? Вопрос приходит не первый раз.
– Слышал, вчера ты получила еще одно письмо.
Ее сердце трепещет в груди.
– Не в наших правилах чересчур вмешиваться в частную жизнь пациентов, Энни. Мы не читаем почту, которую получают пациенты, как поступают в других приютах. Мы здесь не такие.
Он ласково улыбается, но меж бровей залегла едва заметная морщинка, и Энни охватывает престраннейшее желание коснуться ее пальцем, разгладить. Она, конечно, не осмелится. Умышленные касания запрещены.
– Здесь нам показывают почту лишь по своей воле. Но ты ведь понимаешь, что эти письма могут нас обеспокоить, правда?
Голос Давенпорта мягок, он обнадеживает, почти физически ласкает в своей неподвижности. Наживка. Энни хранит молчание, словно заговорить – все равно что дотронуться в ответ. Может, если она не ответит, доктор перестанет давить. Может, если сидеть достаточно тихо, она просто исчезнет. Энни постоянно играла в эту игру на необъятных полях и скалах Баллинтоя. Воспоминание возвращается, поразительно ясное: игра в исчезание. Как правило, у нее получалось. Энни могла целыми днями бродить по лугам за домом, придумывая истории, так, что ее даже никто не видел, никто с ней не заговаривал. Как призрак во плоти.
Доктор вытягивает шею из высокого воротника. Шея у него сильная, крепкая. Как и руки. Он с легкостью сумеет совладать с Энни. В этом, наверное, и вся суть этой силы.
– Быть может, ты хочешь показать мне письмо, Энни? Для своего же спокойствия? Нехорошо хранить секреты… они тяготят, гнетут.
Она вздрагивает. Она жаждет поделиться и сгорает от страстного желания все скрыть.
– Оно от подруги.
– Подруги, которая работала с тобой на борту пассажирского судна? – Давенпорт замолкает на миг. – Вайолет, верно?
Энни охватывает паника.
– Теперь она работает на другом корабле. Говорит, им остро необходима помощь, и спрашивает, вернусь ли я на службу.
Вот. Тайное стало явным.
Давенпорт изучает ее взглядом темных глаз. Энни не способна сопротивляться, его ожидание давит. Она совсем не умеет говорить «нет»; все, чего ей всю жизнь хочется, – это угождать людям: отцу, матери. Всем. Быть хорошей.
Какой она когда-то была.
«Моя милая Энни, Господь благоволит хорошим девочкам», – говорил папа.
Она лезет в карман и отдает доктору письмо. Смотреть, как он читает, невыносимо, словно обнажилось не послание, а ее собственное тело.
Затем доктор поднимает взгляд, и его губы медленно растягиваются в улыбке.
– Понимаешь, Энни?
Она сцепляет руки, лежащие на коленях.
– Понимаю что?
Она знает, что он скажет дальше.
– Ты ведь понимаешь, что не больна, как остальные, правда? – Давенпорт произносит слова ласково, словно пытается не задеть ее чувства. Словно она этого не знает. – Мы сомневались, насколько этично тебя тут держать, но не спешили выписывать, потому что… ну, откровенно говоря, мы не знали, как с тобой поступить.
Когда Энни поместили в лечебницу Морнингейт, она ничего не помнила о своем прошлом. Она проснулась на узкой постели, руки и ноги были покрыты синяками, не говоря уже о жуткой ноющей ране на голове. Энни обнаружил констебль за питейным заведением. Проституткой она не выглядела – одета была отнюдь не для сего занятия, и от нее не несло джином.
Однако никто не знал, кто она такая. В то время Энни сама едва себя знала. Она даже не могла назвать свое имя. Врачу не оставалось ничего, кроме как подписать постановление о помещении ее в психиатрическую лечебницу.
Память со временем начала возвращаться. Впрочем, не вся; когда Энни пытается вспомнить определенные вещи, не выходит ничего путного, лишь туман. Ночь, когда затонул огромный корабль, разумеется, врезалась в память с кристальной безупречностью глыбы льда. А вот то, что было до, кажется нереальным. Она вспоминает двух мужчин, каждого по отдельности, хотя иногда ей кажется, будто они слились в ее разуме в одного – или во всех мужчин в мире. А до того – обрывки зеленых полей и бесконечных проповедей, распевных молитв и воющего северного ветра. Мира, слишком огромного, чтобы его постичь.
На протяжении четырех лет единственным ее спутником становится ужасное, пронзительное одиночество.
Разумеется, лучше оставаться здесь, в безопасности, а мир с его тайнами, войнами, лживыми обещаниями пусть остается снаружи, за широкими кирпичными стенами.
Доктор Давенпорт смотрит на нее со все той же задумчивой улыбкой.
– Тебе не кажется, Энни?
– Не кажется что?
– Было бы неправильно держать тебя здесь, пока идет война. Занимать койку, которую можно отдать тому, кто действительно болен. Солдаты страдают от контузии. Аллея Эвертон кишит несчастными сломленными душами, которых терзают пришедшие за ними с полей боя демоны.
Темный, очень спокойный взгляд устремляется в глаза Энни, задерживается.
– Ты должна отправить письмо в «Уайт Стар» с просьбой восстановить тебя на прежней работе, как предлагает подруга. В сложившихся обстоятельствах так будет правильно.
Энни ошеломлена – не суждениями доктора, но стремительностью происходящего. Ей трудно поспевать за его словами. В груди медленно растекается ужас.
– Ты в порядке, моя дорогая. Просто испугана. Само собой. Но ты будешь в полном порядке, как только увидишься с подругой и снова начнешь трудиться. В самом деле, уже пора, тебе не кажется?
Энни упрямо не может избавиться от ощущения, что ее отвергли, практически вытолкали за порог. На протяжении четырех лет ей удавалось вести себя так, чтобы оставаться здесь. Она хранила свои тайны. Старалась нигде не вмешиваться, не сделать ничего плохого.
Энни была такой хорошей девочкой.
А теперь ее жизнь, ее дом и единственную безопасную гавань отнимают, вновь вынуждая отправляться в неизвестность.
Но пути назад уже нет. Энни знает, что не может ему отказать, не способна отказать ничему, что говорит доктор. Не когда он так добр.
Давенпорт складывает письмо, протягивает его Энни. Ее взгляд задерживается на его сильных руках. Пальцы мимолетно касаются его пальцев. Запретный плод.
– С радостью подпишу бумаги, – говорит ее доктор. – Поздравляю, мисс Хеббли, с возвращением в мир.
3 октября 1916 г.
Моя дорогая Энни,
надеюсь, письмо тебя найдет. Да, я снова тебе пишу, хоть и не получала ответа с тех пор, как ты отправила весточку через главное управление «Уайт Стар Лайн». Ты понимаешь, почему я продолжаю писать. Молюсь, чтобы твое состояние не ухудшилось. Было горько читать о твоем нынешнем положении – впрочем, по твоему письму мне не показалось, что ты нездорова. Простишь ли, что я потеряла твой след после той Жуткой Ночи? Я не знала, жива ты или мертва.
К слову о вопросе, который все еще, вероятно, тебя гнетет: я больше не получала известий о судьбе той девочки. Весь тот холодный, ненастный вечер, ожидая в спасательной шлюпке и умоляя Господа нас пощадить, я крепко прижимала ее к груди. Но затем, когда нас спасла «Карпатия», как я упоминала в прошлом письме, меня вынудили отдать ее команде, и я думаю, что ее, по всей видимости, оставили в сиротском приюте. Ты должна понять, что мы, возможно, потеряли ее навеки.
Мне очень жаль, Энни.
Позволь теперь уделить внимание тебе, дорогая подруга. Мне горько думать, как ты чахнешь в застенках лечебницы. Какая бы меланхолия ни терзала тебя с той роковой ночи, ты должна ее преодолеть. Я знаю, ты можешь. Я помню девушку, ставшую моей соседкой на том обреченном корабле. Никогда не забуду, как увидела тебя в последний раз – как ты спрыгнула в эти темные, ледяные воды. Мы думали, ты лишилась рассудка, утратила разум от потрясения. Однако лишь ты заметила, что ребенок упал в воду. Лишь ты понимала, что нельзя тратить ни мгновения. Энни Хеббли – самая смелая девушка, которую я только встречала, подумала я той ночью.
Поэтому я и знаю, что ты выживешь и в нынешних обстоятельствах, Энни. Ты сильнее, чем считаешь.
Я уже не стюардесса, а сестра милосердия – военные нужды. Корабль, на котором я сейчас служу, – близнец того прелестника, который мы обе так хорошо знали. Однако представь, если можешь, что все его пышное убранство преобразилось, как Золушка, вернувшись к жизни судомойки! «Британник» волей Его Величества превратили в госпитальное судно. Никаких больше хрустальных канделябров и бархатных обоев у парадной лестницы. Теперь все замазано побелкой, затянуто брезентом и пахнет антисептиком, вездесущим антисептиком. Танцевальный зал стал чередой операционных, в кладовых теперь хранятся запасы хирургического оборудования. Палаты способны вместить тысячи пациентов. Сестры и команда поселились в каютах первого класса, где мы с тобой когда-то заправляли постели и хлопотали над пассажирами.
Энни, «Британник» до сих пор отчаянно нуждается в сестрах милосердия. Снова умоляю тебя обдумать возвращение к морской карьере и поработать со мной бок о бок. Не стану лгать: мы видим до невыносимого кошмарные ранения. В газетах пишут правду: это воистину война, что положит конец всем войнам, ведь нам уже никогда не превзойти ее ужасов. Ты нужна мальчишкам, Энни, – поднять дух, напомнить, что ждет их дома. Ты станешь для них лучшим в мире лекарством.
И, если честно, ты будешь лучшим в мире лекарством для меня. Я страшно по тебе скучаю, Энни. Мало кто поймет, что мы пережили. Мало кому можно признаться, что кошмар все еще преследует меня по ночам, что я вижу его каждый месяц, каждую неделю и что иногда кричу от страха. Мало кто способен понять, почему я по-прежнему зарабатываю на жизнь морем, почему к нему привязана, когда оно явило мне, на какие ужасы способно.
Ты, я уверена, поймешь. Удивлюсь, если ты не страдаешь от тех же горестей и страхов, потому как сама привязана к морю. Я всегда в тебе это чуяла.
Напиши, Энни, и скажи, что присоединишься ко мне на «Британнике». Я уже подала в лондонское управление рекомендательное письмо на твое имя. Мы отбываем из Саутгемптона двенадцатого ноября. Молюсь, чтобы увидеть тебя до отплытия.
С нежной любовью,
Вайолет Джессоп