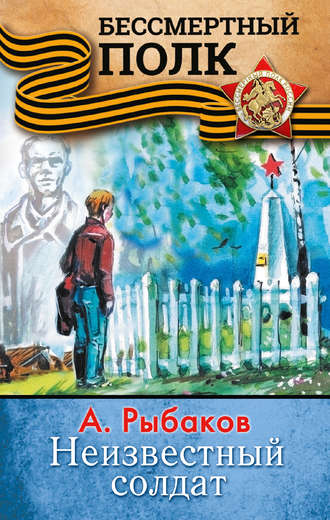
Анатолий Рыбаков
Неизвестный солдат
7
И вот мы с Наташей идем по пустой школе. Шаги наши гулко отдаются в пустом коридоре. Справа – громадные окна, в их стекла бьет яркий солнечный свет. Слева – закрытые двери классов. Чудится, будто там идут уроки, хоть знаешь, что никаких уроков нет.
Мы спустились по короткой боковой лестнице и очутились перед дверью, на которой било написано: «Штаб рейда "Дорогой славы отцов"». В моей школе не было такого штаба и не было такого рейда. Я знал об их существовании, но видел впервые.
На стендах лежали старые солдатские каски, пилотки, гильзы, винтовки без затворов, с зарубками на прикладе. Видно, отмечал снайпер, сколько немцев убил из нее.
На стенах висели увеличенные портреты воинов – суровые лики войны. Я сказал:
– Если бы даже на них не было гимнастерок, я бы сразу определил, что это солдаты Отечественной войны. Эпоха накладывает на лица свой отпечаток.
Не знаю, дошел ли до нее внутренний смысл моих слов. Наверно, не дошел, слишком серьезно она ответила:
– Эти солдаты погибли в наших местах. Мы разыскали их родственников.
Конечно, дело это нужное и полезное. Но меня не убедишь, что действительно есть энтузиасты рыть могилы, переносить останки, разыскивать родных, которые и без того знают, что их близкие погибли. Да и какие родственники сейчас, через тридцать лет? Отцы и матери умерли, дети забыли, внуки в глаза не видели.
Но Наташа мне понравилась, и я сочувственно заметил:
– Это было, наверно, чертовски трудно?
– Это было сложно, – ответила она.
У нее гладкое лицо и серые пристальные глаза. Стройная, смуглая, спортивная девчонка. Она мне сразу понравилась. Хотя я и сразу понял, что совершенно ей безразличен. Интерес у нее не возник, а когда интерес не обоюден – тогда мертвое дело.
Она рылась в большом книжном шкафу.
– Ты в каком классе – в девятом, в десятом?
Она ничего не ответила. Ей не нравятся мои вопросы? Почувствовала мой интерес? А что в нем предосудительного? Я знаю этих серьезных, замкнутых девчонок, это гроб с музыкой… И все же именно в таких девчонок я всегда врезываюсь. Их замкнутость, что ли, меня интригует? И чем бесперспективней, тем больше стараюсь. Мистика!
Она достала из шкафа сверток:
– Вот пакет Софьи Павловны. Здесь нет ни фамилии солдата, ни документов. Мы отложили розыск до осени.
Она развернула пакет и выложила его содержимое на стол: фотография, старая промокашка, кисет с вышитой на нем буквой «К», самодельная зажигалка из патрона, маленький картонный квадратик из детского лото с изображением утки.
Фотография была разорвана на четыре части, потом склеена. Пять солдат сидели на поваленном дереве на фоне леса. В середине – бравый, щеголеватый старшина со значком на груди, с медалью, с широким командирским ремнем и портупеей через плечо. Справа от него – два молодых солдата, слева – два пожилых. Я перевернул фотографию. Там было написано: «Будем помнить ПРБ-96».
– Что за ПРБ-96?
– Название ремонтной части, их уже давно не существует, – ответила Наташа, – и найти ее невозможно. Когда часть строевая – полк, дивизия, – тогда легче. И потом, на карточке пять солдат. Кто из них в могиле – неизвестно.
Она говорила в воздух. Будто я не живой человек, а казенная единица, пришедшая посмотреть казенное дело.
– Слушай, – сказал я, – у вас тут, кажется, есть танцплощадка.
– Есть. – Она насмешливо посмотрела на меня. – Могут и тебя пустить, если подстрижешься.
– Дело идет к зиме – утепляюсь.
– А дорога – это что: романтика?
Итак, прояснилось ее мнение обо мне.
– Тут ты угадала: муза дальних странствий.
Я говорил и держался развязно. Тоже мистика! С девчонками, с которыми нужно держаться развязно, я серьезен. И наоборот: с кем нужно быть серьезным, говорю развязно. Чувствую, что все порчу, а иначе не могу. Я всегда стараюсь укрепить первое впечатление о себе, даже если это впечатление для меня невыгодно. Возможно, у меня какое-то психическое нарушение – делать все во вред себе.
– Кстати, дай мне фотографию, – сказал я.
– Зачем?
– Отчитаться перед начальством, а то скажут – не ходил. Я лицо должностное.
– Только верни, – после некоторого колебания ответила она.
– А как же, завтра же. Ты где живешь? Дом я знаю, а квартира?
Она пожала плечами:
– Какая тебе разница? Принеси в школу – мне передадут.
Понятно… И все же я ее так не отпущу. Вижу, что дело гиблое, а не отпущу. Психи мы, психи!
– Так как, договорились? Идем на танцы? Завтра!
– Завтра нет танцев.
– Послезавтра.
– Послезавтра я буду у бабушки.
– Послепослезавтра.
– Опять нет танцев.
– Ясно. А как насчет кино?
– Я видела эту картину.
– Какую?
Она засмеялась:
– Видела…
– Да, слушай, Софья Павловна сказала: про солдата знают ваши местные жители – Михеев и Агаповы. Известны тебе такие?
– Известны.
– Сходим узнаем, найдем этого солдата.
– Курьеры, курьеры, тридцать тысяч курьеров.
– Ты хочешь сказать, что это не так просто.
– Да, приблизительно это я и хотела сказать.
– А попытаться?
– Попытайся.
Из школы я отправился на почту. Дал телеграмму в Центральный военный архив:
«Прошу сообщить где в сентябре 1942 года находился ПРБ-96 жив ли кто-нибудь из его командиров их адреса».
Обратный адрес я указал: Корюков, дорожно-строительный участок, мне. Так запрос выглядел солиднее.
Квитанцию я скрепкой прикрепил к фотографии. Снова, на этот раз внимательно, рассмотрел ее. Солдаты сидели на поваленном дереве. У старшины через плечо висела полевая сумка, на левой стороне груди медаль, какая – не разберешь, а на правой – значок, по форме напоминающий гвардейский.
8
Вагончики и навес-столовая были ярко освещены. Уютно тарахтела электростанция. Тишина, покой, отдых после тяжелого трудового дня.
Рабочие обедали за столами, сколоченными из толстых, обтесанных досок с врытыми в землю крестовинами.
Мои соседи по вагончику – бульдозерист Андрей, тот самый, что наткнулся на могилу, и шофер Юра, подвозивший меня в город, – помахали мне. Я подсел к их столику. С ними сидела чертежница Люда. Как я понял, у нее с Юрой любовь.
– Чего узнал? – спросил Юра.
Все равно придется докладывать Воронову. Я счел лишним рассказывать сейчас.
– Справки по ноль девять.
– Во дает! – восхитился моим ответом Андрей.
Из кармана куртки он вытащил пол-литра, разлил по стаканам. Люда мизинцем провела по самому донышку, показала, сколько ей налить. На ней был немыслимо короткий плащ с погончиками, этакий мини-плащ. Странно, что такая молодая девчонка работает на строительстве дороги и живет в вагончике. Может быть, из-за Юры?
Водку я не люблю. Но выпить пришлось. Как объяснил Андрей, мы выпиваем в честь моего переезда в вагончик. Сегодня они, старожилы, угощают меня, завтра я, новосел, угощу их – таков обычай.
Так объяснил Андрей.
За соседними столами тоже ужинали, шумели, галдели. Но Андрей, Юра и Люда держались особняком. Сидели с видом людей, которые обо всем уже переговорили, молча понимают друг друга, сознают свою значительность. В коллективе каждый создает себе положение как сумеет. Эти решили создать себе положение, держась независимо и значительно.
Мимо нас прошел инженер Виктор Борисович, пожилой интеллигентный человек с помятым лицом. Окинул наш стол внешне безразличным, а на самом деле зорким взглядом.
– Присаживайтесь, Виктор Борисович, – пригласил его Андрей, придвигая табуретку.
Виктор Борисович присел чуть в стороне, оперся на палку. Не то сидел с нами, не то сам по себе.
Андрей налил и ему.
Ужин кончался, рабочие расходились. Официантка Ирина с подносом в руках собирала со столов посуду.
– Ириночка, прелесть моя, – Виктор Борисович погладил ее руку, – какая ручка, какое чудо!.. Радость моя, попросите на кухне немного льда и томатный сок.
– Ладно, – недовольно проговорила Ирина и пошла дальше, собирая на поднос посуду. У нее довольно правильные, даже тонкие черты лица, испорченные, однако, выражением недовольства.
– Только в глуши попадаются такие иконописные лица. И имя византийское – Ирина, – сказал Виктор Борисович.
– Византия – Константинополь – Стамбул, – небрежно проронил Юра, показывая свою образованность.
– Ирина, жена византийского императора Льва Четвертого, красавица, умница, – Виктор Борисович бросил в стакан лед, добавил томатного сока, – управляла государством вместо своего сына Константина, которого свергла с престола и ослепила.
Ребята с интересом слушали этого пожилого, видно, образованного застольного краснобая.
– Какие женщины были! – заметил Юра.
– То есть! – многозначительно произнесла Люда.
Это выражение обозначало у нее высшую степень согласия.
– Сына ослепила! – возмутился Андрей. – Ее надо было посадить на кол, четвертовать, колесовать, расстрелять и повесить.
– Боже, какой кровожадный! – с деланным ужасом проговорила Люда.
Виктор Борисович продолжал:
– Не только не повесили, дорогой мой друг Андрей. А наоборот, была она высоко отмечена церковью за преследование иконоборцев, то есть тех, кто боролся с культом икон.
– И правильно преследовала, – заметила Люда, – сейчас иконы ценятся.
– Иконы – это другое, – возразил Андрей, – это древность, история. Поронск отстраивают – тоже древность, история.
Виктор Борисович вдруг опустил голову и печально проговорил:
– Неизвестно еще, где она, настоящая история. Возможно, в Поронске, а может быть, и еще где-то.
– В старину люди крупнее были, – объявил Юра, – кипели сильные страсти. Олег на лодках доходил до Цареграда.
– «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам… – запел Андрей. У него был сильный низкий голос, а главное, могучая грудная клетка: он, наверное, мог бы заменить целый хор. – Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам…»
Юра и Люда подхватили:
– «Так громче, музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит…»
И когда они прокричали это самое «бежит, бежит, бежит», в столовую вошел Воронов, окинул ее хмурым взглядом, подошел, сел за наш стол.
– Что, узнал?
Я положил перед ним фотографию и рассказал о Софье Павловне и о школе. О телеграмме, которую дал в Москву, естественно не сказал. О Наташе тоже.
Пока я рассказывал, фотография обошла всех и наконец задержалась у Виктора Борисовича: перед тем как рассмотреть ее, он долго дрожащими руками искал по карманам очки.
– Ясно, – сказал Воронов, – тетку нашли, а она ничего не знает. Фотография есть, а кто похоронен – неизвестно.
– Про то и разговор, – поддакнул я, намекая, что дело требует дальнейшего расследования: мне очень хотелось опять повидать Наташу.
Виктор Борисович наконец водрузил очки на нос. Рассматривая фотографию, сказал:
– Старшина – красавец. Как вы считаете, Люда?
– То есть!
С некоторым оттенком ревности Воронов заметил:
– Для нашей Люды один красавец – Юра. Он для нее Собинов плюс Шаляпин.
– Вас я тоже считаю красавцем, – парировала Люда.
– Спасибо! – поблагодарил Воронов.
Виктор Борисович показал на самого пожилого солдата:
– А этот на тебя похож, Сережа, как будто твой отец или дед.
– У меня все предки живы до четвертого колена, – соврал я, – наша семья славится долголетием. Железные нервы.
– Видали его! – сказал Воронов, обращаясь на этот раз ко всем за столом. – Какой долгожитель! Все! Завтра переносим могилу. Твоя миссия окончена, Мафусаил!
Железобетонным голосом я возразил:
– Во-первых, я должен вернуть фотографию. Во-вторых, надо зайти к одному человеку, по фамилии Михеев, и к женщине, по фамилии Агапова. При немцах у них прятались наши солдаты.
– Нет уж, – еще более железобетонным голосом ответил Воронов, – мы свое дело сделали. А остальным пусть занимаются школьники, военкомат – кому положено. Все. Точка.
– Но я обещал прийти. Меня будут ждать. Люди!
– Видали его! – снова обратился Воронов к сидящим за столом. – То вовсе не хотел идти, а теперь бежит – не остановишь. А кто за тебя будет работать?
– Вы сами говорили: на мою квалификацию замена найдется, – напомнил я.
– Все помнит! – заметил Воронов.
Рабочие кончили ужинать, разошлись. Столовая опустела. Официантка Ирина подметала пол.
Виктор Борисович положил на стол фотографию, пробормотал:
– «Великий Цезарь, обращенный в тлен, пошел, быть может, на обмазку стен…»
– Шекспир, «Гамлет»! – заметил я.
– Знает! – кивнул головой Воронов, хлебая борщ.
– Если солдат этот действительно разгромил немецкий штаб, тогда стоит поискать, – заметил Андрей.
– Прошлое обрастает легендами, люди создают мифы, – пробормотал Виктор Борисович.
– Герой не герой, – сказал Юра, – а разыскать его невозможно. В войну погибли миллионы… Только надо и о живых думать. А кому до нас дело? Сидим в поле.
– Переходи на такси. – Воронов отодвинул тарелку, встал. – Завтра переносим могилу. А ты, – он обращался ко мне, – как-нибудь вечерком на попутной машине отвези фотографию.
И вышел из столовой.
Официантка Ирина с веником в руках и византийским выражением на лице только этого и ждала:
– А ну подымите копыта!
9
Есть теория, будто внимание приятно любой девушке, льстит ее самолюбию. Теория эта несостоятельна. При моем появлении на лице Наташи изобразилась досада. Я был ей неинтересен, неприятен, может быть, даже противен.
Прав Пушкин: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Я нарушил завет великого поэта.
По двору она шла со мной, как сквозь строй, как на Голгофу.
Судачили женщины. Мужчины под грибком забивали «козла». Парни в подъезде своими взглядами дали мне понять, что если я еще раз появлюсь здесь с девчонкой с ихнего двора, то они самое малое оторвут мне голову.
Стараясь держаться возможно официальнее, я сказал Наташе, что могилу мы переносим. Но должны получить разрешение вышестоящих инстанций; требуется знать, чья могила. Таково правило. Таков закон. Их мы не смеем нарушить, иначе остановится строительство дороги. А дорога должна быть закончена в твердые сроки. От этого зависит открытие международного туристического центра в Поронске. Туристический центр – это, между прочим, валюта. Недобор валюты – подрыв государственного бюджета.
Так я ей все это расписал, так разукрасил. Она если не смягчилась, то, во всяком случае, прониклась серьезностью задачи. И сам я, несомненно, вырос в ее глазах. С этого бы мне, дураку, и начинать тогда в школе, а я завел бодягу насчет танцев. Впрочем, возможно, все к лучшему. Ей теперь не может не быть стыдно за то, что ошибочно приняла меня за пошляка и циника.
Михеева, сухощавого старика с садовым ножом на поясе и двустволкой в руках (он стрелял по галкам), мы застали в саду. Пахло яблоками. У ворот лежали кучи песка, торфа, навоза. На цепи рвалась и лаяла овчарка.
– Скажите, пожалуйста, у вас в войну лежал наш раненый солдат? – спросила Наташа. Задавать такие вопросы было для нее делом привычным.
Михеев оперся на ружье, посмотрел на нас:
– Какой такой солдат?
– Наш, советский, при немцах, – пояснила Наташа.
– Был у меня солдат, был, а как же, – охотно подтвердил Михеев.
– Вы его фамилию не помните?
– Как можно помнить то, чего не знал, – ответил Михеев, – чего не знал, того не знал. И не знаю.
Я протянул ему фотографию:
– Есть он здесь?
Михеев надел очки:
– Зрение уже не то, да и времени прошло много, стираются детали в памяти человеческой.
Он долго рассматривал фотографию. Потом посмотрел на меня, на Наташу и показал на самого молодого солдата:
– Вот этот.
На снимке, справа от старшины, сидели два солдата. Один совсем молоденький, беленький – на него и показал Михеев.
– Вот этот солдат и был у меня. Звали его Иваном. Фамилии не знал и не знаю. А зачем он вам нужен, солдат этот?
Я объяснил. Мы нашли могилу при дороге. Выясняем личность солдата. Никаких документов при нем, кроме этой фотографии, не было.
Михеев выслушал мои объяснения, потом сказал:
– Лежал он у меня раненый, а тут немцы вошли в город. Он не пожелал остаться: найдут, говорит, лучше в лес подамся. Собрался, я его на тропку вывел, он ушел.
Я спросил, не слыхал ли Михеев о нападении на немецкий штаб и не этот ли солдат совершил такой геройский поступок.
– Слыхали мы про взрыв штаба, – ответил Михеев, – только не мог мой солдат этого сделать. Ушел он от меня в тот день, когда вошли немцы, а штаб взорвали на четвертый или на пятый день. К тому же был серьезно ранен и если сумел дойти до леса, то слава богу. – Он показал на старшину. – На третью или четвертую ночь приходил ко мне этот старшина, искал Ивана. Я ему все объяснил: нет, мол, Ивана. С тем старшина и ушел – видно, прятался в городе. И когда те взрывы произошли, я сразу подумал: его рук дело. Может быть, я ошибаюсь, только все мои предположения именно на него, на старшину.
Рассказ Михеева произвел впечатление достоверности. Он говорил твердо, убежденно и доказательно. Я ни на минуту не сомневался в правде его слов. Хотя сам Михеев казался мне малосимпатичным, сухим и рассказ его сухим, слишком деловым. Таким же тоном он мог бы рассказать о пропавшей телеге. Ничто не дрогнуло в его лице, не шевельнулось в душе, не защемило сердце. Был парнишка, ушел. Может, дошел до леса, может, нет. Был старшина, пришел ночью, спросил, ушел; наверно, он взорвал штаб, а может, и не он.
По дороге к Агаповым я поделился этой мыслью с Наташей.
– Все реагируют по-разному, – ответила она, – он рассказал, что знал.
– Видимо, ты права, – согласился я, – мне не приходилось с этим сталкиваться, потому и показалось странным. Во всяком случае, его рассказ – серьезное свидетельство: есть одно имя – Иван, Ваня. Есть предположение, кто взорвал штаб – старшина. Теперь остается узнать его фамилию.
– Остается совершеннейший пустяк, – насмешливо проговорила Наташа.
Она была в простом синем пальтишке, но выглядела как богиня. Подул ветер, и она подняла воротник.
Нет контакта, хоть убей! Держусь официально, делаем одно дело, и все равно – враждебность. Теперь она торопилась к Агаповым. Чтобы отделаться от меня.
У Агаповых ее встретили как знакомую: в маленьких городках все знают друг друга.
У Михеева разговор ограничился хотя и содержательной, но сухой и короткой информацией. Здесь же он принял характер пресс-конференции. Мы даже сидели за круглым столом: Агапова-старшая – худенькая старушка с беспокойным лицом, Агапова-младшая – интеллигентная моложавая женщина, ее сын Вячеслав, или Слава, толстый молодой человек двадцати трех лет в очках, Наташа и я.
Таков был состав участников этой незабываемой встречи.
Рассмотрев фотографию, Агапова-старшая сказала:
– В войну у нас стояло много солдат. Разве можно всех запомнить?
Я пояснил:
– Речь идет о том дне, когда в город вошли немцы.
– Когда вошли немцы – это было в сентябре сорок второго года, – у нас были два солдата. Эти или нет – не помню. Немцы всех нас выселили и разместили на улице свой штаб. А солдаты наши, как увидели, что в город вошли немцы, исчезли.
– Исчезли? – переспросил я.
– Исчезли, – подтвердила старушка. – Я не успела оглянуться, как они исчезли. Растаяли в воздухе.
– Мистика! А вы не слышали про солдата, который разгромил немецкий штаб?
– Слышала… Но немцы его убили, кажется.
– Мог это быть один из ваших двух солдат?
Она пожала худенькими плечиками:
– Мог и быть, мог и не быть, я этого не знаю.
И тут вмешался молчавший все время Слава:
– А почему я ничего не знаю об этой истории?
В семье Агаповых мне понравились все, кроме вот этого самого Славки. Он мне сразу не понравился. Молодой очкарик, к тому же толстый, обычно ассоциируется с каким-нибудь добродушным увальнем вроде Пьера Безухова. А если очкарик худой, то с каким-нибудь болезненным хлюпиком типа… Не приходит на память тип… Во всяком случае, очки, свидетельствуя о каком-то изъяне, о физическом недостатке, придают их обладателям обаяние человечности, некоей беспомощности. Я не мог бы себе представить, скажем, Гитлера, Геринга или Муссолини в очках. Но если в очках хам, то он из всех хамов – хам, из всех нахалов – нахал, я в этом много раз убеждался. У таких очки подчеркивают их хищную настороженность. Их скрытое за стеклами коварство.
Вот таким очкариком и был Слава. И он спросил довольно капризно:
– А почему я ничего не знаю об этой истории?
Бабушка развела руками:
– Война была, стояли солдаты, ушли, ничего такого особенного.
– Как же ничего особенного – штаб разгромил, – возразил Слава.
– Я ведь не видела, кто разгромил штаб.
Бабушка не так проста – дает сдачи нахальному внуку.
Тогда внук обратился ко мне:
– Для чего вы ведете розыск?
Я коротко его проинформировал.
– Значит, вы с дороги, у Воронова работаете. Понятно.
Есть люди: упомяни при них какое-нибудь учреждение, они тут же назовут фамилию его начальника. Будто этот начальник их ближайший приятель или даже подчиненный.
– Да, кажется, фамилия нашего начальника Воронов, – небрежно подтвердил я.
– А я думал, ты из школы, – уж совсем пренебрежительно и притом «тыкая», объявил Слава.
– Нет, – возразил я. – Мы на практике, с четвертого курса автодорожного института.
– Сколько же вам лет, когда вы успели? – удивилась Агапова-бабушка.
– Меня приняли в институт досрочно, как особо одаренного дипломанта Всесоюзного математического конкурса.
– Строите дорогу, – сказала Агапова-мать, – неужели нельзя было заасфальтировать хотя бы главную улицу?
– А зачем? Сносить будут ваш город.
Все ошеломленно уставились на меня, даже индифферентная Наташа. Но меня понесло. Меня раздражал самоуверенный Слава, его очки, их хищный блеск.
– Теперь установка на города-гиганты, – продолжал я, – а у вас ни промышленности, ни индустрии, ни легкой, ни тяжелой. Свет и тот выключают в одиннадцать часов. Юмор.
– Наш город, – сказала Агапова-мать, – древнее Москвы, здесь была крепость, защищала Русь от кочевников.
Она сказала это с достоинством и обидой за свой город. Мне сделалось стыдно.
– Мама, не беспокойся, – иронически заметил Слава, хищно косясь на меня своими очками, – молодой человек фантазирует.
Мне надоела эта бодяга:
– Может быть, все же вспомните, кто из солдат был у вас?
Бабушка снова рассмотрела фото, развела руками:
– Нет, не могу вспомнить.
Агапова-мать взяла фотографию:
– Дай-ка я посмотрю.
Она тоже долго смотрела на фотографию, потом показала на старшину:
– По-моему, этот. Второго не помню, а этот был.
– Тебе тогда было двенадцать лет, – напомнила бабушка.
– И все равно помню. Такой был молодой, красивый. Он у меня промокашку попросил.
Я привстал.
– Промокашку?!
– Да. Я делала уроки, и он или его товарищ, в общем, кто-то из них попросил промокашку, и я дала.
– Почему вас так поразила промокашка? – спросил Слава.
Вместо меня ответила Наташа:
– Среди вещей солдата есть промокашка.
Это были первые и последние слова, произнесенные ею за весь вечер.







