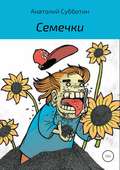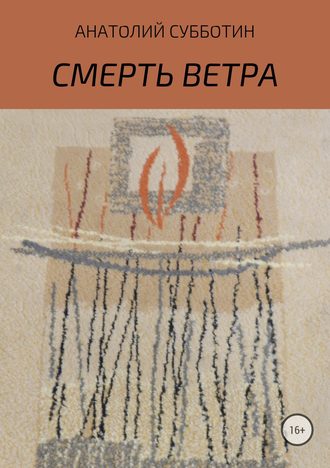
Анатолий Субботин
Смерть ветра. Книга стихов
Весна меня любовью уколола
Весна меня любовью уколола.
И сердце распустилось, словно роза.
А прежде в организме было голо,
как во саду, опавшем от мороза.
Я розу-сердце, красное от крови,
хочу нести и девушкам дарить.
Но, в зеркало взглянув, сдвигаю брови:
увы, меня нельзя уже любить!
Ввалились щёки и взор померк.
Амур жестокий меня отверг.
Теперь уроки даёт мне смерть.
Весна! Бегут ручьи, летают мухи.
Я еле-еле ноги волочу.
Мне не догнать ни девки, ни старухи.
Я отдан невидимке-палачу.
Прокисли соки и взгляд уснул.
Амур жестокий, ты обманул!
2001
Турне возмездья
Апрель. Разлив. Шалаш. Ильич
уху готовит, словно бич,
научно выражаясь – люмпен,
которого никто не любит.
А он охотник и рыбак:
и видит глаз, и ухо внемлет.
К нему не подкрадётся враг.
Он обошёл моря и земли.
И тут полено он зажёг,
из искры возгорелось пламя,
и варит, варит котелок,
и тезисы текут ручьями.
Но всё равно его никто не любит:
ни зверь не прёт, ни Надя не плывёт.
И ходоки сошли бы на безлюдье,
но на печи они не ходят круглый год.
Лишь изредка какой-нибудь Пахом
к его костру случайно забредает,
но, встретив плешь, сверкнувшую умом,
тотчас же в ужасе и мраке пропадает.
Турнули из Европы Ильича
(так начинается турне возмездья!)
за то, что он чинов не различал
и на осле по городу не ездил.
И Петроград ему не рад.
Встал медный конь, его заметив, на дыбы.
Тогда Ильич сказал коню: “Аристократ,
пусть рванное трико, мы не рабы!”
Тогда Ильич сокрылся в шалаше
и пил вермУт девятого разлива,
и написал турецкому паше,
чтоб выслал броневик ему красиво.
И он красиво встал на броневик.
Пред ним Сенатская шумела площадь.
Он произнёс свинцовый черновик
и пересел на медную ка-лошадь.
Так Петроград
стал Ленинград.
2001
Кость
1
Как не любить тебя: ты так худа.
И дождь идёт худой, костлявая вода.
И я сижу – художник, чистый дух –
играю в кости; цифра больше двух
не выпадает. Это хорошо.
Есть ты и я, а остальное – порошок.
2
Вспомянем, братья. Дело было так.
Ревела буря, матерился мрак.
Семеро графов подскакали к кладбИщу.
И сторож нас спросил: чего мы ищем?
Невесту! – молвил кто-то из нас.
И молния, как трещина, сверкнула.
А сторож, как фонарь, погас.
И нас читать надгробья потянуло.
Поцеловав по морде лошадей,
с собой не захвативши фонарей,
мы, как слепые, пальцами читали,
но попадались нам: то хан Гирей,
то Бармалей, а то товарищ Сталин.
Наконец, один крикнул: эврика!
Мы подошли и нащупали милое имя.
МЁРТВАЯ ЦАРЕВНА зовут её, нашу невесту.
Прежде чем взяться за дело, мы почистили зубы.
И вытащив сапёрные лопатки,
вокруг могилы обойдя вприсядку,
мы сдвинули гранитную плиту,
из-под земли достали красоту.
В хрустальном ящике она лежала,
прекрасная, как снежный перевал,
без шпаги, без плаща, без одеяла.
И мы в неё влюбились наповал.
Царевна кулаком стекло разбила,
восстав, коснулась поцелуем наших уст.
И нас тотчас же сильно зазнобило,
и ожили мы сильно ниже чувств.
С тех пор живём с царевною в землянке.
Она – султан, а мы – её гарем.
И никому не делаем подлянки.
В любви и мире вечно не старем.
3
Подруга дней моих суровых,
наложница мрачных ночей,
зачем живём мы безголово
в окруженье кирпичей?
Надеть бы шапку-невидимку
(беда ведь, не на что надеть!)
и в голубой растаять дымке,
как сон, как утренняя плеть.
Не видеть собственный живот,
гулять по улице нагими,
тебя любить наоборот –
на ощупь лишь, забывши имя.
Слушай, ведь ты же романтик,
поскольку у нас роман.
Повяжи на головке бантик,
я на шею надену аркан,
и пойдём купаться в Лете,
пока нас не ругают наши дети.
2001