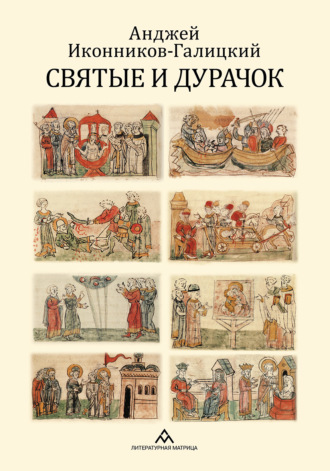
Анджей Иконников-Галицкий
Святые и дурачок
Вычтем из этой суммы мусульман и прочих иноверцев, которые среди нижних чинов русской армии составляли примерно четверть. Получается, что две трети солдат и унтер-офицеров именовались православными, но на самом деле таковыми не являлись.
В них, внутри, не было веры; вера была им навязана снаружи.
Думаю, что примерно такой же была ситуация во всём русском обществе. Дальнейшие события это подтвердили.
Загадка крушения православной Руси и превращение её в страну воинствующего атеизма перестаёт быть загадкой. Две трети православных только числились таковыми, на самом же деле вера была им навязана. Это была не вера, а государственная идеология. Они стряхнули её с себя, как освобождённый пленник стряхивает разрезанную верёвку.
Правда, ненадолго. Скоро, очень скоро их скрутили верёвками куда более жёсткими: советской идеологией.
Думаю так. Истинно верующих православных в России было не 120 миллионов, а, может быть, миллионов десять-пятнадцать, считая женщин и детей. Убеждённых врагов веры, безбожников, марксистов – ещё того меньше, может быть, миллионов пять, а может быть, миллион. Но это всё были отборные бойцы, и у них имелась программа, как устроить будущее всеобщее счастье без Бога. Поэтому они смогли подчинить и в значительной части перетащить на свою сторону огромную массу людей, не имеющих веры. И этой массой задавили верующих. Почти даже истребили их.
Потом, однако, оказалось, что всеобщее счастье не получается, что оно отодвигается куда-то в неопределённую даль и на пути к нему множество ужасных препятствий, преодоление коих требует непосильного труда и бесконечных жертв. Огромную массу неверующих людей можно было тащить в такое будущее только силком, на верёвке. Строится новая государственная идеология – настоящие стальные узы, – не то что нудное и мягкое царское принуждение. Этими канатами скручивают всех советских людей.
И вот что интересно: люди, масса (та самая, которая без внутренней веры), в общем-то, охотно принимает сии оковы. Вера, как говорит апостол, есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А совсем без ожиданий и без попыток заглянуть за пыльную завесу видимого мира жить уж больно тоскливо. Если нет живой веры, так пусть будет хотя бы её тень, чертёж, имитация – государственная идеология. Вот почему так стремительно разрастаются ряды коммунистической партии, вот почему восьмиклассники поголовно вступают в комсомол, а четвероклассники – в пионеры. И все произносят слова дежурных клятв: «Я, такой-сякой, вступая в ряды… Перед лицом своих товарищей… Любить Родину… Как завещал великий Ленин… Как учит коммунистическая партия…»
Потом наступает момент, когда и эти узы лопаются и их стряхивают с ещё большим азартом и топчут с ожесточением. Но из того, что исчезло принуждение к вере, совсем не следует, что появилась настоящая вера. За первоначальной эйфорией следует растерянность, ощущение пустоты и – острая потребность в новой массовой имитации веры.
Скоропослушница
Я был в пионерах. И в комсомоле. И даже с энтузиазмом.
Дети вообще легко принимают любые правила игры.
Это происходит оттого, что в детях жива исконная человеческая потребность в вере. Она потом, по мере взросления, засыхает, а в детях жива. А вот знания – во что верить – у детей нет. Нет умения отличать правду от лжи. Это состояние называется «доверчивость». И ещё есть более отчётливое, чем у взрослых, стремление быть похваленным, получить хорошую оценку. И вообще, быть как люди – то есть как все.
Поэтому мы, дети, охотно и радостно вступали в эти самые «ряды». И учились ходить строем под пионерский барабан. И петь пионерские песни. И носить белую пионерскую рубашку с красным галстуком. И называться «член совета отряда», «председатель совета дружины», «учебный сектор», «культурно-массовый сектор». Попозже всё то же самое переносилось в комсомол, только гуще замешивалось.
Но за всеми маршами, песнями, речёвками и стенгазетами таилась пустота. Светлое будущее так и не наступило, и взрослые это уже понимали. Они продолжали играть с нами в привычную игру, потому что не знали, чем нас занять; пилили железную гирю, как Паниковский, для вида. И в комсомольском переходном возрасте, когда начинаются поиски истины, в душу потихоньку закрадывалось страшное чувство, что нас обманывают. Взрослый мир врёт цинично. И от нас того же хочет.
Это настолько неприятно, что надо что-то делать.
А теперь я расскажу, как пришёл к Скоропослушнице.
Хотя я этого не помню.
В деталях и в обстоятельствах не помню. Просто я стал гулять в Лавру. Когда и почему – не помню опять-таки. Чего-то не хватало: какого-то воздуха, который обретался там.
А что такое была Александро-Невская Лавра в те позднесоветские годы? Действующий собор как остров посреди грязного, хмурого моря. Или как пленный линкор в окружении пиратских шхун. Путь к нему крив и угрюм – через лужи, между двумя кладбищами, переделанными в музеи, под крики чёрных птиц: галок и ворон. В бывших монастырских корпусах – какие-то невнятные советские учреждения, наполненные с девяти утра до шести вечера серыми служащими, мужчинами и женщинами. Утром эти серые текли туда, вечером оттуда. Перед собором – большое кладбище (третье по счёту), утопающее в грязи, утыканное островерхими советскими стелами со звёздами и, кажется, без единого креста. Если пройти Лавру насквозь, протиснуться между обшарпанными строениями неизвестного назначения – откроется Обводный канал, дымный и безлюдный. Справа – психдиспансер, слева громада элеватора и туманный невский простор. Пойдёшь в ту сторону – попадёшь опять на кладбище – Никольское, запущенное, заросшее кустарником, с осквернёнными склепами и покосившимися крестами. Потоптавшись меж обломанных оградок и куч прошлогодних листьев, мы возвращаемся к Троицкому собору.
Не то чтобы собор спорил с окружающей его действительностью или как-то противостоял ей – тоже тяжёлый, молчаливый, угрюмоватый. Но достаточно поставить ногу на первую ступень его огромной паперти, чтобы почувствовать нечто необычное: переход невидимой границы. Выше, перед массивной дверью, неумолимо хочется перекреститься. Входишь внутрь – и попадаешь в иное пространство, сумрачное, гулкое, высокое и покойное, пахнущее свечами и вечностью. Там – те же люди, но другая пластика их движений, другие лица – отдалённо похожие на иконы. И много икон, совершенно разных; некоторые – старого письма, некоторые – как картины в Эрмитаже.
Из этого подвижного сумрака выступил и встретил меня Её лик.
У нас в Лавре две иконы Богородицы Скоропослушницы: одна – точный список афонской, другая – особенная, именуемая Невской. Почитаема Невская, в бело-золотом киоте возле алтаря; к ней идут, перед ней всегда есть кто-нибудь; в большие праздники к ней, бывает, не протолкнуться. А другая таится в боковом сумраке, слева от главного нефа. Обе иконы смотрят прямо в ум и сердце: человеческая красота и, я бы сказал, обаяние лика Богоматери создаёт какой-то особенный продукт – излучение веры.
Меня почему-то притянула к себе та, что в сумраке. Я подходил и к Невской, останавливался перед ней (молиться ещё не умел, не догадывался как). Но потом шёл к той, второй. И стоял долго.
Что тут происходило? Вспоминая, думаю, что это можно назвать исхождением невидимого света. В сумраке. Свет этот недоступен глазу, но его пьёт душа – так же, как умирающий пил бы живую воду. Жизнь возвращается, но не та, что ушла, а другая, новая. И настаёт покой.
На высокогорьях, на альпийских лугах, когда никого нет кругом, бывает похожее чувство: как будто всё исчезает, а остаются свет, тишина, покой. Травки чуть-чуть колеблются, маленькие цветы наклоняются под тихим ветром. Шаги не слышны. Многообразие мира сливается в одушевлённом единстве.
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
Это Пушкин написал про монастырёк Цминда Самеба на горе над Военно-Грузинской дорогой у подножия Казбека. Перед Скоропослушницей (буду писать как личное имя – без кавычек) получалась как бы заоблачная келья. Бог везде, и всегда мы с Ним в соседстве. Но обычно, глухие и слепые дураки, этого не замечаем, грубой своей шкурой не чувствуем. А тут – ощущалось.
Я, бывший пионер и вроде ещё комсомолец, конечно, ничего этого не понимал. Но что поделаешь с ощущением? Мне было хорошо здесь. Человеку всегда или почти всегда плохо, а в подростковые и юные годы это «плохо» усиливается лихорадочным возрастным беспокойством, порывистой боязнью опоздать куда-то, не попасть на белый пароход. И вот тут, перед Скоропослушницей, это «плохо» отваливалось от меня, исчезало в запахе ладана и свечек. И становилось хорошо.
Постояв, я уходил. И хотелось снова прийти, и даже сделать что-то, например принести Ей цветов. Раза два или три я так и делал. До этого два или три раза дарил цветы девушкам, в которых был, как мне казалось, влюблён. И теперь – Ей.
Она цветы, конечно, принимала. Но нужно было что-то другое. И я никак не мог понять что.
Путаясь в сети времени, я не могу точно установить, когда – до встречи со Скоропослушницей, или позже – имело место особенное событие. Особенное – то есть выходящее из всех рядов, не имеющее причин в окружающей и в предшествующей жизни.
Я даже знаю его точную дату – 8 октября 1979 года (не знаю, начал ли ходить к Скоропослушнице до этого или позже; кажется, всё-таки позже). Настолько был ошарашен его ни во что невместимостью, что зафиксировал грязной шариковой ручкой в блокноте. Получилась словесная шелуха, такая же неказистая, как советская шариковая паста, которой это было накарябано.
А суть в том (попытаюсь ещё раз), что я спал, вернее уже не спал, а лежал, собираясь проснуться, на грани сна и бодрствования, то есть тогда, когда нет ни мечты, ни воли. И Кто-то как будто сел на край моей кровати (физически ощутимо и невесомо, неощутимо), и от Него великая любовь наполнила всё внутри и вне меня. Это был Свет, который я не видел глазами, потому что глаза-то мои были закрыты. Но это был Свет, невидимый, мягкий… Но это был Кто-то (Кто, а не что), любящий меня, склоняющийся (как мама, вернее как я в детстве мечтал, чтобы мама меня обнимала). Во мне что-то отозвалось, зашевелилось, потянулось навстречу. Я, кажется, приподнялся на постели – не знаю, физически ли приподнялся, или же это двинулась моя душа, а тело оставалось лежать… И я даже крикнул или совершил душою действие, похоже на крик: «Верую!» Конечно, я ничего не кричал, никаких слов, но смысл был «верую!». Потому что Свет что-то говорил мне, что-то такое, чего я не мог уразуметь, но смысл был «люблю», и надо было что-то ответить Свету. Засим Он так же тихо отошёл от меня. И тут навалилась на грудь тяжесть, стало душить, давить внезапным страхом… Но и это отошло. И я проснулся.
Всё было такое же, как было. Комната, окно, кровать, стол, стулья, зеркало, шкаф, люстра под потолком, утреннее солнышко в высоком окне. И всё – другое.
Надо сказать, что случилось сие в момент жизни для меня трудный и неприятный. Меня забирали в армию. А забирали вследствие того, что я после школы никуда не поступил. А не поступил, потому что на ровном месте провалил два экзамена: математику на дневном и сочинение на вечернем геофаке. Математику я тогда знал на хорошую четвёрку, а за сочинения у меня не бывало оценок ниже пятёрки. И вот – на. Плюс к тому меня совершенно не любила девушка, одноклассница, в которую я был влюблён или мне казалось, что был влюблён. Одним словом, я – неудачник. Двумя словами – катастрофический неудачник. Мне семнадцать лет и почти одиннадцать месяцев. Мне больше незачем жить. А через пять недель выйдет приказ, и меня заберут в армию. В Афганистан. Афганистан как вестник краха державы, правда, ещё не явился (он явится через два месяца), но что-то устрашающее, похожее на цинковый гроб, уже висело в воздухе.
Нет, в армию меня не забрали. Но мне было страшно. А страх заставляет искать путь к спасению. Видимо, моя душа металась между страхом смертным, стыдом неудачничества и тоской отверженности, и искала дверцы на волю, и, сама того не ожидая, взмолилась. Всякая истинная молитва – о том, что я не один в своём чёрном и ледяном колодце: я с Ним – с Тем, кто возьмёт меня на ручки и понесёт к теплу и свету. Весёлый Боженька не будет сердиться, а обнимет меня, и станет так хорошо…
Снова на горе близ Эфеса
Антураж такой же, какой был в самом начале. Однако вместо хижины на прогалинке под соснами трёхступенчатое возвышение и на нём престол. На престоле сидит Богородица в красном мафории, с небольшой короной; на руках Младенец. По дорожке – видимо той же, по которой когда-то шёл апостол Иоанн, – движется маленькая фигурка, одетая во что-то невнятное: потёртые серые брюки, рубашка неопределённо тёмного оттенка, дешёвые кроссовки. Фигурка – мы назовём её Душа – выходит на середину поляны и останавливается перед престолом.
Душа. Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою.
Мария. И тебе радоваться, милый. Как хорошо, что ты пришёл. Мы тебя ждали.
Душа. Как Ты могла ждать меня, когда я сам не знал своего пути? Пошёл вот по этой тропинке… Ноги занесли меня сюда случайно.
Мария. Разве это важно – как? Просто ждали – и всё. Прежде чем ты был под смоковницей, там, внизу, в начале пути, мой Сын видел тебя. Вот хлеб, он чудный, так все говорят. Он укрепит твоё сердце. Вот вино, выпей, и станет весело.
Неизвестно откуда, видимо из теней, сгустившихся под соснами, появляется столик, на нём кувшин, блюдо с хлебом и какие-то плоды, какие именно – издалека не разглядеть.
Душа. Я знаю – всё это во сне или в видении. Но как хочется, чтобы было на самом деле!
Мария. А тут всё и есть на самом деле. Возьми, поешь, отпей. Это, наверно, твоя странная одежда мешает тебе поверить. Ты скоро снимешь её, и ангелы дадут тебе новую, белую и чистую, как свет. Немного надо подождать.
Душа. Как я оставлю здесь свою одежду? Там, внизу, стоит автобус, люди… Каким я вернусь к ним?
Мария. Не бойся. Тот, кто не верит, – не увидит, а тот, кто верит, – не удивится.
Душа. Но чистая одежда испачкается. Я разорву её о колючки – спуск крутой, заросли густые…
Мария. Ты хочешь найти повод, чтобы испугаться. Не бойся. Всё, что здесь, у меня, – не испачкается и не разорвётся вовек. И бояться ничего не надо. Я когда-то боялась, я знаю.
Душа. Как одолеть страх?
Мария. Не знаю. Никак. Одолевать – значит бороться, а бороться – признавать силу врага. У страха нет силы. Просто делай как должен.
Душа. Как Ты сказала ангелу: «Вот я, раба Господня»?
Мария. Да. И… И нет. Это были слова. Решение пришло раньше. Не знаю когда. Когда я играла в куклы. Или когда мама Анна кормила меня грудью. Чтобы жить, надо решиться.
Душа. И решение наше – вера. Странно: решил, поверил – и живу. Что же, вера – воздух? Питьё? Пища?
Мария. Да.
Душа. Но все – там – думают по-другому. Они думают, что вера – бумажка, которую подписал. Или переписал, или выбросил. А она – то, что едят?
Мария. Да. Вера – это еда, которая не приедается, питьё, которое утоляет всякую жажду. То, что даёт нам Отец.
Душа. Удивительно! Я же читал это сегодня, именно сегодня: «И взял я книжку из руки Ангела, и съел её; и она в устах моих была сладка, как мёд; когда же съел её, то горько стало во чреве моём». Как это может быть?
Мария. Поешь этого хлеба и выпей вина.
Душа. И больше ничего?
Мария. И больше ничего.
Из тишины и шевеления сосен вылепляется музыка, как пение далёкого хора. Пространство наполняется светом. Понемногу свет становится приглушённым, вечерним. Теперь мы видим, что возвышение, престол и та, что на престоле, – икона, очень большая, гораздо больше человеческого роста. Перед ней фигура в потрёпанных брюках и тёмной рубашке – Автор.
Автор оборачивается к нам, продолжает прерванную речь.
И больше ничего
Я ни к чему не нужен. Я, собственно, наг и сир.
Лоб клюёт бессонница. Ночь ничь не видит.
«Отче наш, – вдруг говорю, – Иже еси
на небесех! Да святится имя Твое, да приидет
царствие Твое…» – Тут пауза. Часы стоят.
Это был вдох. Наперерез дыханью
врывается: «…да будет воля Твоя
яко на небеси и на земли…» – и выдыхаю.
Я ни с кем никому, в большой квартире, на дне
мёртвого моря-мира, склизко, забиты ставни –
выпрашиваю: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь, –
а есть не хочу, больно мне, – и остави…» –
Именно так! Ребро поднимает вдох:
«…нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим…» – Вечность журчит водой
в трубах – они поют, как коммунары перед расстрелом.
«И не введи нас… – хором гудят за мной –
…во искушение, но избави…»
Утро, всё кончено, тает мой дом ледяной…
Пуля летит – «…от лукавого» – и разбиваем.
Вспышка. Дверь. Лестница. Жизнь – Магомедов кувшин.
Вот те и ночь! Ну уже не заснётся.
Отче наш! Ты один. Я один.
И ничего больше не.
Не остаётся.
Несколько шагов по водам. Об апостолах
Вонми, небо, и возглаголю,
и воспою Христа,
от Девы плотию пришедшаго.
Откуда берётся имя
У моей бабушки Веры была старшая сестра Анна, и была младшая – Елена. Родственники будут сопровождать нас на некоторых участках нашего пути, поэтому познакомимся. Бабушка Вера Александровна, 1900 года рождения; Анна Александровна, моя крёстная (на детском языке – Кока), 1898 года рождения; Елена Александровна (на детском – тётя Лёля), 1904 года рождения. И были два брата, Павел (1902 года) и самый младший, Николай (1906-го). В их жизни запечатлелась вся русская история двадцатого века: от Порт-Артура до Беловежской пущи, через революции, войны, репрессии и блокады, но об этом не сейчас.
Сейчас вот о чём.
Меня крестила Кока.
Как это было, я, естественно, не знаю.
Вот сейчас, рассказывая самому себе собственную жизнь (а это неизбежно, чтобы перейти к теме «Святые и я, грешник»), я вижу, какой она (жизнь) оказалась запутанной. Всегда хотел жить просто, а получалось сложно. Поэтому немного терпения: о сложностях моего крещения.
В то время, когда я родился, крестить человека было не такто легко. На весь Ленинград с его уже почти четырьмя миллионами жителей существовало чуть больше десятка действующих церквей, причём половина – кладбищенские. Все они просвечивались насквозь светильниками КГБ. Ходить в церковь, а тем более крестить – побаивались. Но в моём случае это не главное. Я изволил телесно родиться на два месяца раньше срока. Стояла холодная, промозглая осень, моя мама простудилась и не доносила меня. А я, едва показав свету своё крохотное тельце, заболел и вполне даже собирался умереть. Так рассказывали очевидцы. Кока, Анна Александровна, когда-то до революции училась в Свято-Владимирской школе при Новодевичьем монастыре. Она хорошо знала молитвы и Писание. Она меня крестила «страха ради смертного», сама, без священника. Точные обстоятельства моего крещения теперь уже не знает никто – только Бог. На мои вопросы об этом, которые я, конечно, задавал, став взрослым, все родственники, в том числе и Кока, отвечали уклончиво. Думаю, они просто боялись советской власти и не хотели поддерживать во мне интерес к церковной теме.
Можно засомневаться (и я задумывался над этим): а было ли крещение?
Было.
Вот странно: было же это сочетание людей, времени и действия. А увидеть, рассказать, как было – никто никогда не сможет. Как меня держала Кока на руках, погружая в воду – за пузико или под мышки? Как наливали в холодную воду кипяток? И было ли мне тепло или холодно? Я плакал? Радовался? Кто стоял рядом? О чём говорили? Где это вообще было – дома или в больнице? Никто не узнает никогда. Но это было. И может быть, там, после слова «никогда», вне времени, мне будет дано увидеть и прожить это явление чуда. Когда с тобой происходит нечто самое главное, а ты даже не можешь запомнить, как это происходит.
Это было именно потому, что подтверждено последствиями. Причина главных событий нашей жизни не в прошлом, а в будущем. Я был крещён не потому, что кто-то этого хотел, и не потому, что обстоятельства к этому вели. Ровно наоборот: никто этого не хотел, даже никто и не понимал, что происходит, и обстоятельства вели в противоположную сторону, холодную и пустую. Причина моего крещения в том, что через пять лет после него я услышал про Боженьку, через восемнадцать пришёл к Скоропослушнице, а ещё потом меня осенил Свет, и в двадцать один год я понял, что должен пойти встретить Христа и съесть Вечность на маленькой ложке.
Теперь ещё об одном сложном изгибе моей жизни.
Мне наречено было имя Андрей.
Наверно, при крещении. Этого никто никогда доподлинно не узнает.
Мой отец был поляк. Звали его Анджей – то есть Андрей. Его родители, мои дедушка и бабушка, пропали без вести во время войны в кровавом варшавском вихре. Как он, шести-восьмилетний, с младшим братиком Ждиславом, выжил – ещё одна из тех историй, которые никто уже не расскажет. Но выжил и после детского дома, после школы был направлен учиться в Советский Союз. В Ленинградском университете познакомился с моей мамой. И вот я родился.
Долго думали, как меня назвать. Мама решила, что назвать по имени отца. В свидетельстве о рождении записали – Анджей. Потому что иначе получалось как-то нелепо: Андрей Анджеевич. А когда крестили, нарекли Андреем. И дома всегда звали Андрей, Андрюша.
Только вот во имя какого святого Андрея нарекли – неизвестно. Никакого.
И когда я узнал, что у всех крещёных есть святые покровители, то почувствовал, что и мне нужно. Как сиротка, проведавший, что у всех детей есть мама и папа, начинает приискивать себе маму и папу в окружающем мире. Бабушкин брат Павел, дядя Павля, как-то шутливо назвал меня: «Андрей Первозванный». Потом в какой-то книге я увидел красивый крест, и звезду с блестящими камнями, и подпись: «Орден святого Андрея Первозванного».
И само собой получилось, что мой святой – Андрей Первозванный.
Я, естественно, ничего про него не знал. Где-то услышал, что апостол.
Кто такой – апостол?
Спросил у бабушки, у Коки. Они сказали: ученик Иисуса Христа.
Ага, того, который над головой Екатерины Афанасьевны.
У крёстной я нашёл книгу (это было, когда уже умел читать и хватал в огромных книжных шкафах все книги, до каких мог дотянуться). Старинная книга в голубом тиснёном переплёте с крестом. Надпись странными фигурными буквами: «Господа нашего IИСУСА ХРИСТА святое ЕВАНГЕЛIЕ». Раз тут про Христа, значит, и про его учеников. Значит, где-то и про Андрея – загадочного – Первозванного. Надо прочитать.
Так апостол Андрей привёл меня к книжному шкафу и дал Евангелие.
Необходимое отступление
Об исторической достоверности Евангелий
Мы не будем распространяться о достоверности Евангелий с точки зрения высшей истины: всякий, кто дочитал повествование до этого места, понял, что для автора она безусловна. Но чтобы просвещённый читатель правильно расслышал этого самого автора, необходимо оговорить некоторые положения, касающиеся достоверности канонических Евангелий и вообще новозаветных текстов как исторических источников.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Мозаичная икона. XIII век. Афон, Великая Лавра
Не пугайтесь: мы не поволочём вас далеко в учёные дебри. Не станем ввязываться в бесконечные споры о том и о сём. Научная литература по означенному вопросу представляет собой даже не море, а океан, переплывая который всякий Магеллан непременно будет угроблен какими-нибудь дикарями. Мы просто покажем направление нашего движения, стоя на твёрдом берегу.
Первое. Для нас очевидно, что создатели канонических Евангелий были абсолютно правдивы и искренни. Бескомпромиссная их правдивость явствует из идейных установок (диавол – лжец и отец лжи), из интонации (говорящие так – не врут), из многочисленных эпизодов, которые не выдумаешь, и фактов, невыгодных для прославления Христа и апостолов. Невозможно представить, чтобы кто-нибудь сочинил сцену «Христос и самарянка у колодца», придумал бы сюжет троекратного отречения Петра или сфальсифицировал встречу Луки и Клеопы с воскресшим Спасителем. Также и изречения Христа – притчи и логии – бесспорно достоверны, так как созданы в едином авторском стиле и заключают в себе неповторимые особенности речи своего Создателя и языковой среды, в которой Он жил. Да и в целом ситуация: Царь мира – жалкий страдалец… Блаженны изгнанные правды ради… Такое совмещение не могло быть придумано людьми античной или древней ближневосточной культуры: что-либо подобное отсутствовало в их сознании. Стало быть, евангелисты ничего не сочиняли, а старались точно фиксировать виденное и слышанное.
Второе. Евангельские тексты созданы людьми, а следовательно, не могут не содержать неточностей и ошибок, потому что человеческая речь по природе своей неточна, а мышление ошибочно. Матфей излагал по-своему, Иоанн – по-своему; стало быть, Матфей ошибался по-матфеевски, Иоанн – по-иоанновски. Ошибки и расхождения проистекали ещё и из того, что при письменной фиксации часть текстов переводилась с языка устного общения (арамейского) на язык культуры (греческий). В дальнейшем неточности и дефекты накапливались при тиражировании текстов в разных культурно-языковых средах (в Палестине, в Малой Азии, в Риме, в Египте), и это продолжалось, пока не был сформирован и отредактирован весь новозаветный канон – то есть примерно до середины IV века.
(Отметим – для недоверчивого читателя, – что редактирование осуществлялось отцами первых Вселенских соборов предельно добросовестно, тщательно, с использованием всего инструментария позднеантичной науки, и имело целью очищение первоначальных текстов от позднейших искажений. Не поддающееся очищению оставалось нетронутым. В итоговых текстах Евангелий присутствует некоторое количество нестыковок и противоречий: свидетельство добросовестности канонической редактуры.)
В связи с этим – третье. Чтобы безбоязненно черпать из святого источника историческую информацию, нужно иметь представление о том, в какое время, в каких условиях, в какой последовательности складывались евангельские тексты. Это – сложнее всего. Не мучая читателя наукообразной аргументацией, мы нарисуем схему, которой придерживаемся.
Потребность в создании связного евангельского повествования, очевидно, появилась тогда, когда стало уходить апостольское поколение христиан – тех, кто видел или мог видеть Учителя своими глазами. Второе пришествие Спасителя, которого первохристиане ждали со дня на день, совершится, быть может, нескоро. Знание об Иисусе надо передать новым поколениям в полноте и точности.
Из текста Евангелий видно, что между Христом и его учениками не было ощутимого возрастного разрыва. Если исходить из того, что средний возраст апостолов примерно соответствовал возрасту Учителя (наиболее вероятное время рождения Которого, по господствующему в научном и церковном мире мнению, – около 5 года до н. э.[1]), то время смены поколений приходится на пятидесятые – шестидесятые годы. Вероятно, тогда началась целенаправленная работа над евангельскими текстами. С другой стороны, в них не отразились явным образом события 70 года – разрушение Иерусалима и Храма римлянами, – потрясшие иудейский мир и подтвердившие пророчества Иисуса. Отсюда заключаем, что Евангелия, по крайней мере синоптические[2], в основном сложились до этой даты (позже могли дополняться).
Значит, евангельские повествования недалеки во времени – отстоят лет на тридцать, максимум сорок – от описываемых событий. То есть примерно как от нас сегодняшних война в Афганистане. Память ещё жива, и кругом полно свидетелей. Это в сочетании с внутренней установкой на правдивость позволяет оценивать синоптические Евангелия как близкие к документальным источникам по степени исторической достоверности.
Относительно последовательности создания Евангелий общего мнения в науке нет. Нам представляется, что первым из канонических было составлено Евангелие от Матфея. Оно наиболее последовательно и полно; интонация и приёмы оставляют впечатление первичности. Вполне возможно, однако, что ему предшествовали какие-то фрагменты жизнеописания и отдельные записи изречений Христа. Евангелие от Марка – сокращённый вариант, доступный многоязыкой и не слишком грамотной «читательской массе», которую составлял средний слой обитателей тогдашних мегаполисов (Рима или, может быть, Александрии). Из него убрано то, что этому кругу было не по зубам: многие отсылки к ветхозаветным иудейским писаниям (у Марка их в разы меньше, чем у Матфея) и прямые свидетельства о Боговоплощении. Евангелие от Луки – версия для хорошо образованной грекоязычной публики; вопрос о том, опирается ли оно на текст Матфея или восходит к каким-то общим с ним первоисточникам – мы оставим без ответа как для нас несущественный.
Теперь о форме потребления Евангелий. Во времена их создателей и потом ещё несколько веков книги потреблялись совсем не так, как мы привыкли. Например, их, как правило, читали не в тишине кабинетов и не про себя. Обычно – вслух. Ещё в конце IV века Блаженный Августин удивлялся необычайной способности своего учителя Амвросия, епископа Медиоланского, читать книги беззвучно, так, что «только губы его при этом слегка шевелились». Чтение вообще было делом более общественным, чем личным, а уж чтение Евангелий – в особенности. Их читали звучно, небольшими фрагментами, во время евхаристических и молитвенных собраний. Подавляющее большинство потребителей евангельских книг, да и всего Писания были не читателями, а слушателями. Слушатель воспринимает текст не так, как читатель. Например, он не может вернуться глазами на строчку выше или заглянуть на следующую страницу, сопоставить, сравнить. Мелкие нестыковки, повторы или противоречия, не нарушающие общий ход чтения, проскакивают мимо его внимания. Зато ритмичность, эмоциональная выразительность, звучность, лапидарность имеют большое значение. Авторы Евангелий обращались именно к слушателям и не особенно заботились об устранении небольших смысловых шероховатостей. Какая, собственно, разница, откуда пришло Святое семейство в Назарет: из Египта (по Матфею) или из Иерусалима (по Луке)? Лука ведь не отрицает факт бегства в Египет от зверств Ирода – он просто не упоминает о нём, так как его эллинизированным слушателям неизвестны ни Ирод, ни ветхозаветные пророчества про Египет. А для иудеев, первых слушателей Матфея, Ирод и Египет весьма значимы, и автор ставит рассказ об этом на важное место между Рождеством и переселением в Назарет. При раздельном же богослужебном чтении соответствующих фрагментов Матфея и Луки противоречие вообще незаметно.
Раз уж мы употребили слово «авторы», то необходимо пару слов сказать и об авторстве. Древность не знала понятия «автор» в его современном индивидуалистическом и правовом значении. Слушатели и даже читатели древних книг не особенно интересовались тем, чья рука их писала. Менее всего это волновало потребителей Евангелий. Для них писание вообще – технический процесс, которым занимаются специально обученные люди. Причём техникой представлялось не только непосредственное нанесение знаков на писчий материал, но и приведение текста в соответствии с правилами грамматики и даже отчасти риторики. Важно не то, кем обработан текст, а от кого он исходит. В древности можно было быть писателем, не умея писать: тексты надиктовывались, а нередко записывались со слов по памяти. Юлий Цезарь, конечно, не своей собственной рукой писал «Записки о Галльской войне». Апостол Павел прямо указывает, в каких случаях он писал своеручно. Иоанн Богослов, возможно, даже не диктовал ничего Прохору, а произносил речь, которую Прохор фиксировал как мог, а потом как умел обрабатывал. Кого в этой ситуации считать автором? Современный человек задумается, а древний ответит: «Не того, кто составляет письменный текст, а того, кто гарантирует его достоверность». Поэтому совершенно не обязательно Евангелие от Матфея написано Матфеем и Евангелие от Луки написано Лукой (хотя во втором случае это более вероятно, чем в первом). Но для всех христиан, с апостольских времён начиная, гарантами истинности этих Евангелий являются Матфей и Лука. Кстати говоря, в греческих заголовках Евангелий употреблён предлог ката: – «по», «согласно»: Евангелие по Матфею, Евангелие согласно Луке.







