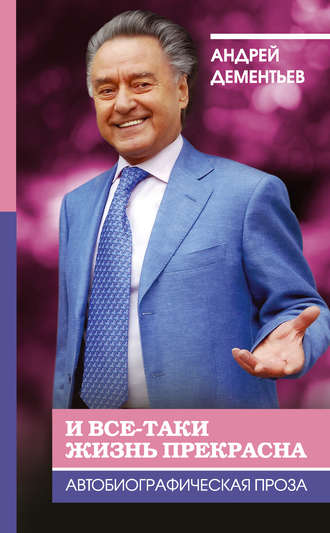
Андрей Дементьев
И все-таки жизнь прекрасна
Серия «Биография эпохи»
Фотографии предоставлены из личного архива автора
© Андрей Дементьев, текст
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
От автора
Однажды, в пору нашей работы в журнале «Юность», мой земляк и старший друг, писатель-фронтовик Борис Полевой спросил: «Старик, вы ведете дневники?» Я удивленно ответил, что никогда не вел и не веду.
– Напрасно. У вас интересная жизнь. Память всего не удержит. А придет время писать мемуары, пожалеете, что ничего не записывали…
– Меня, – говорю, – еще в юности расхолодил Михаил Михайлович Пришвин. Выступая перед участниками Всесоюзного совещания молодых писателей, он сказал нам, что никогда не вел дневники, ибо память сама сохранит все самое главное. А то, что позабудется, значит, было не очень важным…
Много позже я узнал, что старый писатель хитрил. Дневники он все-таки вел. Но Полевой в чем-то меня тогда убедил. И я стал вести дневник. Однако в силу своей занятости делал это нерегулярно, а потом и совсем забросил. И сейчас, когда действительно настало время мемуаров, пишу почти обо всем по памяти. Заглядывать, кроме своей души, мне некуда.
Мы все жили и продолжаем жить в одно время, и у всех у нас много общего, и потому личная судьба каждого – это неожиданный ответ на многие вопросы, таящиеся где-то в глубине души незнакомого тебе человека. Правда, иногда мемуары – это всего лишь скрытые происки мелкого тщеславия, когда может показаться, что твоя жизнь и твоя персона представляют невероятный интерес для всего человечества… Я далек от таких мыслей. Но если мой опыт и моя природная откровенность заставят кого-то задуматься не только о своем прошлом, но и поразмышлять о настоящем и будущем, то я буду доволен вспыхнувшим между нами взаимопониманием.
Кроме того, мемуары предполагают еще одну грань читательского интереса. Это рассказы о незаурядных личностях, о знаменитых современниках, с кем автору довелось по жизни общаться, дружить, работать…
У меня, например, таких встреч было великое множество. Назову только несколько имен – Михаил Шолохов, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Джина Лолобриджида, Чингиз Айтматов, Зураб Церетели, Булат Окуджава, Мирей Матье, Андрей Вознесенский, Иосиф Кобзон, Евгений Евтушенко, Алла Пугачева… Звездный список можно еще и еще продолжать.
Как говорит народная мудрость, чужая душа – потемки. Однако я бы уточнил – потемки, когда на нее не падает свет вашей доброты и интереса… А поскольку многое на земле повторяется, то в каждой судьбе найдутся крупицы и твоей жизни, дорогой читатель… А это значит, что книга, которую я представляю на ваш суд, может чему-то научить и даже от чего-то предостеречь.
Андрей Дементьев2018 год
Всему начало – отчий дом
Тверские впечатления
Всем лучшим в себе я обязан родителям. А потом уже книгам, школе, учителям и творческому азарту. Мой отец – Дмитрий Никитович – был родом из бедной крестьянской семьи. Переехав из деревни Старый Погост в Тверь, выучился на гримера и работал в театре. Потом стал дамским парикмахером и пользовался большим успехом у женщин. Во-первых, потому что был молод и красив, а во-вторых, потому что стал отменным мастером.
Однажды в церкви он увидел свою будущую жену Марию – очень привлекательную и скромную девушку. И вскоре посватался к ней. Ему отказали.
В это время он брал уроки гипноза. И попытался проверить магию на своей избраннице. Приходил к церкви, когда там шла служба. Он знал, что Маша с родителями в Храме, и мысленно вызывал ее на улицу. Мама рассказывала потом, что она всегда чувствовала его приход, испытывая тревожное беспокойство, и в конце концов под разными предлогами выходила на улицу.
Они любили друг друга, но ее родители были против их союза. До сих пор не понимаю – почему. Красивая пара, оба из простых семей, работящие… Когда отец вновь пришел свататься, суровая Екатерина Игнатьевна – так звали мою будущую бабушку – бросила в жениха кастрюлю с кипятком. Отец понял, что надеяться больше не на что. И тогда он выкрал невесту и увез ее в деревню Старый Погост, что располагалась в двенадцати километрах от Твери. Чтобы избежать скандала и позора, родители Маши смирились и устроили пышную свадьбу… Маме тогда едва исполнилось 18 лет, а отцу было 24 года.
Спустя несколько лет отец вдруг решил поменять профессию и поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, которую закончил с отличием и вернулся из Москвы в Тверь агрономом.
Но в семье нашей главенствовала мама. Она и фамилию оставила себе девичью – Орлова. Отец так сильно ее любил, что каждое желание или просьба жены были для него радостным обязательством.
Я родился в день Святого Андрея Первозванного, и родители назвали меня Андреем. В те годы в Твери это имя было не очень популярным. Может быть, потому, что в атеистическую эпоху называть детей в честь святых было не принято. Но меня крестили, и я навсегда остался верным своим именинам.
Помню, как одна наша гостья при мне сказала моему отцу: «И чего ты назвал сына Андреем? Есть много хороших русских имен – Иван, Василий, Кузьма…» Отец что-то ответил, а я – шестилетний малыш – сразу невзлюбил эту тетю.
Отец нередко брал меня в свои поездки по колхозам, чтобы я мог познать деревню не только по рыбалке и грибным походам, но и по нелегким крестьянским будням. Как-то на поле к нам подошла молодая и очень миловидная женщина и спросила меня: «Мальчик, а как тебя зовут?» Совершенно неожиданно для себя я ответил: «Вася…» Отец весело засмеялся и потрепал меня по вихрам. «Андрей он у нас…» – сказал он гордо той женщине (как я потом узнал – председателю местного колхоза), и она тоже засмеялась… С тех пор я никогда не позволял себе таких шуток. А в школе даже возгордился, что моего имени ни у кого из ребят не было.
Жили родители дружно. Это сказывалось на моем характере, воспитании и настроении. С самых ранних моих лет отец каждый вечер читал мне перед сном хорошие книги – сказки Пушкина, «Маугли», Лермонтова, Жюля Верна… Благодаря отцу я рано пристрастился к чтению. Он следил за выбором книг, поощрял мой интерес к русской и зарубежной классике. Изо дня в день незаметно и ненавязчиво воспитывал во мне доброту. Ее он ценил в людях превыше всего. И еще уважение к старшим, к чужому труду.
Каждое лето, уезжая на школьные каникулы к бабушке, я учился косить, окучивать картошку и собирать урожай в нашем большом огороде. Ничего не прошло даром. До сих пор я хорошо чувствую психологию крестьянина, понимаю и ценю деревенский труд, уважаю простых людей, умеющих и печь сложить, и корову подоить, и дом построить. Поэтому так много в моих книгах стихов о жизни земляков, о красоте сельской природы и красоте человеческой души. Именно потому для меня очень высок и светел образ простого труженика, я всегда осуждал и осуждаю в своей поэзии все, что калечит, угнетает и унижает моего лирического героя, списанного с добрых людей.
Наш дом, который хранится сейчас лишь на старых семейных фотографиях и в песне «Отчий дом», что написали мы вместе с Женей Мартыновым, тоже волжанином, навсегда остался для меня началом судьбы, биографии и первых радостей и испытаний.
Помню, однажды ночью, на второй день после начала Великой Отечественной войны, к нам пришли хмурые люди в зеленых фуражках, все перерыли в нашей маленькой комнатке и увели с собой отца. Он обернулся на пороге и, увидев, что я не сплю, грустно улыбнулся мне.
Потом сказал, обращаясь к плачущей маме: «Это недоразумение. Я скоро вернусь…» Но вернулся он только через несколько лет – поседевший, состарившийся. Как бывшего политзаключенного, его никуда не брали на работу. Тогда он смастерил точильную машину и стал брать в парикмахерских ножницы, в магазинах ножи и с утра до вечера точил их. Заказов было много, но денег всегда не хватало… Я уже поступил в пединститут и одновременно учился в Московском заочном полиграфическом. Время было тяжелое, и жили мы бедно. Мне очень хотелось скорее стать самостоятельным и помогать родителям…
Шли годы. Отца реабилитировали, как и четверых его братьев, двое из которых не вернулись из лагеря. Трагически погиб и мой дед Григорий Платонович, человек могучего здоровья и силы. На лесозаготовках он случайно попал под рухнувшую сосну. Двадцать дней сердце его продолжало биться в раздавленной груди. Было ему 64 года… А до войны все мы жили одной большой семьей – дед, бабушка, я с отцом и мамой, ее братья. Каждое воскресенье по вечерам семья собиралась за праздничным столом, приходили гости. Было шумно и весело. Потом мама с дедом пели русские народные песни и романсы. Особенно мне нравился в их исполнении «Вечерний звон». У деда был сильный баритональный тенор. И хотя он нигде не учился, владел голосом искусно. Потому-то его часто приглашали петь в церковном хоре. А мама пела в любительской опере и даже участвовала в различных фестивалях. Они и приобщили меня к музыке.
Уже позже я стал собирать пластинки с любимыми певцами. И больше всех любил Сергея Яковлевича Лемешева. Многие его арии и романсы знал наизусть. Каждый день в нашем доме надрывался старенький патефон… Природа тоже наградила меня хорошим голосом. Я занимал первые места на детских конкурсах и фестивалях. Меня приняли в музыкальную школу. Учителя видели во мне будущего певца. Моя любимая учительница пения Вера Ниловна обучала меня игре на фортепьяно. Все ждали переходного возраста, когда установится голос, и в мои семнадцать лет педагоги устроили прослушивание. Я исполнил несколько русских и неаполитанских песен. Директор музыкального училища – маленький добрый старичок, предложил мне поступить на вокальное отделение. Но что-то меня остановило. Может быть, погрустневшие глаза моей учительницы, в которых я прочел легкое разочарование, как бы обманутые надежды… И я отказался поступать в училище, потому что понял – выдающегося певца из меня не получится. А при моей любви к музыке быть заурядным исполнителем не хотелось.
В детстве я был, как и все мальчишки, непоседливым и азартным. Помню, как-то свалился с крыши нашего дома (и чего меня туда понесло?!) и очень неудачно упал лицом на острое полено. Маме позвонили на работу. Она тут же прибежала – бледная, рыдающая, схватила меня на руки и понеслась в больницу. Кажется, мне было тогда лет пять. Несколько дней я не мог открыть опухший рот и ничего не ел. Переломов, к счастью, медики не обнаружили.
Однако на этом мои приключения не кончились. Рядом с нашим домом высилась крутая гора, которую мы называли Куклиновкой. Однажды, на спор, я покатился с нее на санках спиной вперед. Санки перевернулись и железная скоба сломала мне нос. И опять мама бежала со мной в больницу. Плакала, убивалась и все смотрела на мое изменившееся лицо. Ей казалось, как она позже рассказывала, что ее сын теперь навсегда будет уродом. И опять все обошлось.
Однажды ясным весенним утром я чуть не погиб под трамваем, когда по глупости и мальчишеской лихости прыгнул в несущийся на всей скорости вагон. Спасло меня увлечение гимнастикой – я удержался на натренированных руках от падения под колеса. Выжался и отпрянул в сторону. И отделался лишь ушибами да многодневным стрессом.
Потом целый месяц ходил в школу пешком, боясь трамвая.
Позже, уже став студентом Литинститута, я провалился под лед, когда переходил Волгу, и мои зимние каникулы чуть не стали последними в жизни. Удивительно, но когда я барахтался в мерзлой воде среди крошившихся льдин, вдруг вспомнилось, как наш школьный учитель физкультуры – бывший фронтовик учил своих подопечных, как надо вести себя, если провалишься в полынью. Главное, чтобы не затащило под лед. Тогда конец. И потому я изо всех сил бил ногами по воде, пытаясь плыть по ледяному крошеву, осторожно вытаскивая себя на более крепкий слой льда. Это случилось в центре города, напротив кинотеатра «Звезда», где было много народу, которому я устроил захватывающее водное шоу. Когда я уже отполз по льду в безопасное место, прибежали с длинным шестом мальчишки, и мы общими усилиями достали из воды мою новую пыжиковую шапку, которую мне только что подарила мама. Если бы не эти ребята, я бы еще раз полез в реку, чтобы достать мамин подарок.
Но мама о случаях с трамваем и купанием в Волге так никогда и не узнала. Я боялся ее волновать.
В тяжелые военные годы мы очень голодали. Мама собирала свои наряды, простенькие украшения и драгоценности, и мы с ней отправлялись в деревню менять скудное барахло на хлеб и картошку. Обо всем этом рассказано в моих стихах и потому не стану повторяться.
Как-то, лет в четырнадцать, я написал ей прощальное письмо, надел чистую рубашку и, когда бабушка отправилась в магазин, вставил в горящую электроплитку где-то найденный боевой патрон и прислонил к нему грудь. Но судьба распорядилась иначе. Видимо, что-то забыв, бабушка тут же вернулась и открыла дверь. Я отпрянул. Раздался выстрел, и пуля пробила форточку. Бабушка, по-моему, ничего не поняла и опять ушла. Я не знаю, почему мне тогда вдруг не захотелось жить. Может быть, из-за этих бесконечных военных голоданий, когда ни о чем, кроме хлеба, я уже не мог думать. Может, просто возраст, попал в кризис и душа с ним не совладала. Помню только, что в первые минуты после выстрела я с ужасом подумал, а что стало бы с мамой и вообще с моими близкими, если бы этому несчастью суждено было случиться. Страшно подумать… Но, слава Богу, опять все обошлось.
Я рано начал ухаживать за девочками. Маму мои увлечения беспокоили. И не напрасно, потому что постоянная влюбленность и частые свидания отвлекали от школы, от книг и немного отчуждали нас друг от друга. Мне, конечно, хотелось хорошо выглядеть, прилично одеваться, что было совершенно естественно для моих пятнадцати – шестнадцати лет. Но время было трудное – война – и романтические настроения разбивались о жестокий быт. Помню, как я стыдился большущих отцовских валенок с галошами, в которых мне приходилось в распутицу приходить на свидания. Да и одежонка у меня была потрепанной, не по росту, с довоенных времен.
В то время школу разделили на мужскую и женскую. Мы дружили классами – наш 8-а с девочками из семнадцатой школы, в которой мы до того учились все вместе. Приезжая в Тверь, я прихожу на берег Волги, на то самое «энское место», где наши юные королевы учили нас – неуклюжих мальчишек – зимними вечерами танцевать вальс и танго. Без музыки, под общее мелодичное мычание. До сих пор не знаю, почему уроки танцев проходили не весной, не летом, а именно в зимнюю стужу. Но нам было тепло – от дружбы, от взаимных симпатий, от нашей юности. Мама знала об этих «танцульках» и в один из новогодних праздников устроила для моих школьных друзей вечеринку. Мы уплетали поджаристую картошку с солеными огурцами, пили травяной чай, а потом танцевали под старенький патефон. Когда все разошлись, я ничего не сказал маме, а просто нежно ее обнял. Как хорошо было нам от этого молчаливого взаимопонимания!..
Всех своих девочек, в которых влюблялся, я непременно приводил в наш дом, знакомил с мамой. Кто-то ей нравился, кто-то нет. Но эта потребность искреннего общения сохранилась во мне на всю жизнь. Прошли через ее оценивающий мудрый взгляд и все мои жены. С интервалами в долгие годы…
В детстве меня редко наказывали. Правда, однажды был случай, когда мы с моим двоюродным братом Борисом залезли в соседский сад нарвать яблок. Хотя у бабушки были свои яблони, но чужие яблоки ведь всегда вкуснее. Хозяин сада дядя Коля влепил нам с братом по оплеухе, а потом нажаловался моему отцу. Тот еще добавил, а мне, как старшему, больно надрал уши. В деревне существовала такая круговая порука взрослых – воспитывать детей сообща.
А второй раз я получил ремня вообще ни за что. Мой одноклассник с нашей улицы позвал полакомиться любимым мороженым и халвой. «А деньги?» – спросил я. Он показал смятую трешку. Мы всласть «покутили», а вечером выяснилось, что трешка им была взята из дома без спроса. На этот раз меня отстегала мама. Но больше меня так никогда не наказывали.
Особо доверительные отношения у меня сложились с маминым братом Борисом. Это был еще очень молодой человек, неженатый, красивый, склонный к авантюризму и любивший всех разыгрывать. Как-то со своим другом Валентином они купили крупную живую рыбину и понесли ее домой бабушке. По дороге рыба стала засыпать, а им очень хотелось всех удивить живой громадиной. И неподалеку от нашего дома они пустили ее в огромную лужу, образовавшуюся после дождя на Сенной площади. Рыба вильнула хвостом и ушла в мутную воду. Тогда эти два фраера при галстуках и в костюмах сняли модные ботинки, засучили брюки и стали с двух сторон ловить уплывшую добычу. Собралось много народа. Их замучили советами, пока они наконец не выловили одуревшее от шума и бурлящей воды будущее бабушкино жаркое.
Мы дружили с Борисом всю жизнь. И когда дядя Боря уже обзавелся семьей и у него родились сыновья, он оставался по-прежнему заводным, веселым, до всего любопытным. На фронте его тяжело ранили и списали под чистую. Он уехал в Курган, где в дни оккупации Твери обосновалась его жена Зина с детьми. Мы редко виделись, но симпатии мои к нему от этих разлук не угасли. Он умер от полученных ран далеко не старым человеком.
Еще в нашей большой семье был самый мой близкий друг – младший мамин брат Сережа… Разница в возрасте у нас была небольшая – около четырех лет. По своим годам и по виду он «не тянул» на полноценного дядю и потому я считал его своим братом. Мы играли с ним в дворовый футбол, учились в одной школе, одинаково тяжело болели скарлатиной и вместе ездили с ребятами на картошку. Однажды, в азарте игры я случайно задел его дедушкиной шашкой, которую тот привез с японской войны, и отбил ему кусок переднего зуба… Сережа не побил меня, не наговорил обидных слов, а просто ушел в дом и спрятал там злополучную шашку. И никогда не вспоминал о моей неловкости. Так и остался он на наших семейных фотографиях – шестнадцатилетним улыбчивым парнем с печальными глазами и с памятной щербинкой… Мой дядя – Сережа Орлов – погиб под Орлом в 43-м году в неполных девятнадцать лет. Много позже, познакомившись в Литературном институте с поэтом Сергеем Орловым, я испытывал почти мистическое чувство некоей сопричастности этих двух фронтовиков…
Мне приснился мой старший брат,
Что с войны не пришел назад.
Мне приснилось, что он вернулся —
Невредимый и молодой.
Маме радостно улыбнулся:
– Я проездом… А завтра в бой. —
Мать уткнулась ему в ладони…
– Что ты, мама! Ну, как вы здесь? —
По глазам угадав, что в доме,
Хлеба нету, да горе есть.
– Угостить тебя даже нечем.
Если б знала – сменяла б шаль…
– Что ты! Разве я шел за этим?!
– Не за этим… А все же жаль,
Что вот так я встречаю сына.
Брат достал фронтовой паек,
На две равные половины
Поделил он его, как мог.
– Это вам… —
И, взглянув на брата,
Я набросился на еду.
– А теперь мне пора обратно.
А теперь я ТУДА пойду.
Завтра утром идти в атаку.
В ту, последнюю для меня.
И тогда я во сне заплакал,
Не укрыв его от огня.
Эти стихи о Сереже я написал много лет спустя.
…Мы учились в разрушенном городе, в промерзшем классе, когда в чернильницах замерзали чернила, и все, начиная с учителей, сидели в довоенных шубах, шинелях или телогрейках. Помню, как в студеный декабрьский день учительница литературы – молодая красивая женщина – вошла в класс и неожиданно сняла пальто. Было так холодно, что мы почли за подвиг ее решимость. А на самом деле ей просто захотелось побыть среди нас в новенькой, видимо, с довоенных времен хранившейся цветной кофточке, потому что накануне у нее был праздник. Заехал на несколько часов ее муж, чья часть стояла неподалеку от города Калинина, только что освобожденного от фашистов… С этого радостного признания она и начала свой урок.
Вообще война как-то очень сблизила людей. И нас с учителями – тоже. Никто не называл их «училками», не давал им прозвищ. Мы были одной большой семьей, потому что жили на краю гибели. Жили бедами, отчаяньем и надеждой военной поры. Все голодали. Помню, как по весне я ходил рвать крапиву, чтобы бабушка сварила из нее щи. По натуре добрый и жалостливый мальчишка, я убил однажды из рогатки воробья, ощипал и положил его в тот котел. Мне постоянно хотелось есть. Возраст требовал полноценного питания, чтобы мужать, крепнуть, набирать силу. Но шла изнурительная война. Страна голодала и мы вместе с ней…
Горькие времена!
Худенький мальчик, где ж ты?
В сутки – лишь горсть зерна.
Триста граммов надежды…
Всем классом мы ходили по весне сажать картошку нашим учителям, чтобы как-то помочь им выжить в то голодное время. А осенью собирали урожай. Они устраивали для нас праздничные обеды, где царским блюдом была картошка, а также лук и огурцы. Летом мы заготавливали дрова, чтобы хотя бы в самые лютые морозы чуть-чуть согреть школу. В те военные будни никто из нас не пропускал уроки. И не только потому, что мы повзрослели. Но больше потому, что в школе давали каждому серую булочку и стакан сладкого чая. Пропустить такое было невозможно.
Вечерами я уходил в читальный зал, что помещался на моей улице. Читал запоем все – классику, детективы, стихи, пьесы Шекспира.
Читальня помещалась в старом доме.
В ту пору был он вечерами слеп.
Знакомая усталая мадонна
Снимала с полки книгу,
Словно хлеб.
Когда я закончил восьмой класс, война уже катилась к границам Германии. Конечно, мы все – мальчишки сороковых – мечтали попасть на фронт. Но годы не пускали. И, чтобы почувствовать себя взрослее и самостоятельнее, я решил сдать экстерном следующий класс и сразу перейти в десятый. Уговорил еще четверых одноклассников, и мы стали заниматься. И это было так нелегко. Потому что нас манила Волга с ее лодками и рыбалкой, с золотым песком городского пляжа и тихой водой. А в кинотеатре «Звезда» шли не увиденные нами фильмы. Но мы с утра до позднего вечера корпели над учебниками, ходили на консультации к преподавателям и завидовали своим сверстникам. Помню, в одно из воскресений я решал задачки по алгебре с нашей математичкой Марией Матвеевной у нее дома. Мы знали, что она одинока. Единственная дочь была на фронте. Урок уже заканчивался, когда в дверь кто-то постучал. Вошла усталая женщина с большой почтовой сумкой и протянула письмо. Мария Матвеевна тут же начала читать и, вскрикнув, опустилась на стул. Я бросился к ней: «Что случилось?» Но говорить она не могла, а только плакала и стонала. Я понял, что пришла беда. Через силу она сказала: «Доченька моя погибла. Вот друзья ее пишут, как это произошло…» И снова заплакала. Я стоял возле своей любимой учительницы, держал ее за руку и не знал, что делать – успокаивать или молча быть рядом. Потом подумал, что надо мне уйти, чтобы она побыла одна, поплакала. Да и сам я едва сдерживал слезы.
И вдруг Мария Матвеевна, словно почувствовав, что я собираюсь уходить, сказала: «Останься, Андрюша. Давай заниматься. А то я сойду с ума…»
Вот какие были у нас учителя.
А вскоре Мария Матвеевна умерла. Умерла от горя. Мы провожали ее всем классом и гроб несли на руках. Шел снег. Девчонок на похоронах не было, потому что мы учились в мужской школе. Пришли только ее коллеги – молодые и не молодые русские женщины, столько пережившие в те невыносимые годы.
Уже много позже, вспоминая школу и своих замечательных педагогов, я написал стихи:
Не смейте забывать учителей.
Все лучшее в нас – все от их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!







