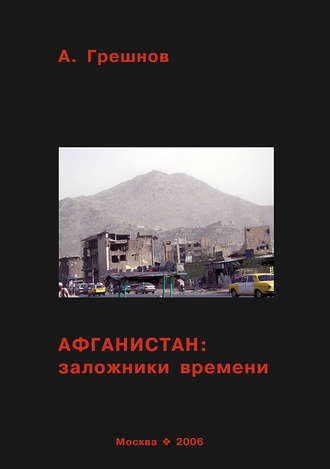
Андрей Грешнов
Афганистан: заложники времени
Моим родителям посвящаю…
Минуло уже больше четверти века с того дня, когда гусеницы боевых машин десанта легендарной 40-й армии впервые загрохотали по улицам Кабула и Афганистан погрузился во мрак и хаос войны. Войны, которая стоила ему более миллиона человеческих жизней, которая принесла горе невосполнимой потери десяткам тысяч советских матерей. Эта война длилась официально 3238, а неофициально – более 4000 дней.
Время рассудит, какой она была – освободительной или захватнической. Ясно лишь одно – вчерашние школьники, взявшие автоматы в руки, выиграли ее, несмотря на то, что весь мир предрекал им поражение. Группировки моджахедов так и не смогли объединиться в борьбе за власть. Афганские вооруженные силы сумели закрепить успех военной победы, и демократический режим существовал в Афганистане еще несколько лет, прежде чем с карты мира исчез разрушенный изнутри предателями Отечества его главный союзник – Советский Союз.
К исходу 80-х годов минувшего столетия население Афганистана уже вполне позитивно оценивало достижения социального прогресса. За все годы войны афганская валюта оставалась одной из самых стабильных в мире. В последние годы вооруженного конфликта на территории страны успешно работало более 300 национальных, смешанных и иностранных предприятий, в том числе структурообразующие, созданные при финансовой и экономической помощи СССР.
Прошло всего 26 лет с начала той войны, многие ее участники еще живы, но история уже переписывается в угоду сиюминутным интересам разного рода «реформаторов». Афганская война занимает в школьных учебниках истории всего несколько строк, цинично повествующих о том, сколько СССР израсходовал средств на ведение боевых действий.
Так стирается людская память, стирается очень быстро. Кажется, еще совсем недавно мы были вместе, а сегодня с яростью зверей убиваем вчерашних друзей, тех, с кем плечом к плечу лежали в афганской пыли и делились последним глотком воды. Очень правильно и больно сказал об этом поэт Александр Розенбаум: «Пламя приднестровской войны родилось на афганском костре, и афганские видят сны оба берега на Днестре. Кулебяка в пятнадцать слоев, и в каждом есть тот, кто был за Рекой, что ж вы делаете, горе мое, что ж не смоете кровь с белоснежных клыков…» Чеченцы, дагестанцы, молдаване, грузины… кто следующий на очереди? Не русские ли?
Эта книга – лишь маленький фрагмент грандиозного полотна, название которому – Афганская война. Он нарисован простым советским человеком, который видел ее изнутри в течение восьми лет.
Автор приносит благодарность за моральную поддержку в написании этой книги историку и писателю А.И. Фурсову, советнику УГРО МВД в афганской провинции Кандагар А.Я. Воронину, командиру отряда ПСС-1 спецназа ГРУ ГШ в афганской провинции Нангархар С.В. Скрипнику, сержанту 2-го батальона 6-й роты 70-й отдельной мотострелковой бригады в афганской провинции Кандагар А.В. Павлюкову, переводчику мотострелкового полка в афганской провинции Парван В.А. Григорьеву.
Заложники времени
Москва, 5 января 1989 года
Тихо прошуршав шиповкой по морозному, искрящемуся в желтых лучах уличного фонаря снегу, авто застыло перед подъездом. Задернув плотную штору на окне первого этажа, выходящем во двор, я повернулся к родным и обыденно сказал: «Все, пора, время не ждет». Зашел в смежную, крохотную комнату, где спала дочка, поцеловал ее в лоб. Присели, как водится, на минуту, обнялись, и я стал выносить на улицу свой багаж – два желтых чемодана из кожзаменителя – талисманы, которые сопровождали меня в Афганистан с далекого 1979 года, и три коробки со снедью. Водитель помог закинуть все это в багажник. Время поджимало. А я смотрел на светящиеся окна моей квартиры и застывшие на желтом фоне темные силуэты мамы и жены. Тихо падал снег, ветра не было. Обычный уютный московский двор на Речном вокзале. Крохотная детская площадка под окнами, стенд с газетой, издававшейся домовой общественностью, белый с красным грибок-песочница, редкие огни засыпающих квартир.
Махнув на прощанье родным, я сел на переднее сиденье. Черная «Волга», мягко стартовав, стала набирать ход. Поворот налево, и мы на Ленинградке. Пустынная трасса до Шереметьево-2.
– Поставь что-нибудь душевное, – обратился я к водителю.
У того были свои представления о душевном. «Третий год здесь, то тут, то там обновлял я лик родной земли, а за мною мчался по пятам исполнительный лист…», – захрипели колонки голосом Лозы. Подумалось, что за мной никто вроде и не гонится, а год уже не третий, а девятый, да и страна далекая. Впрочем, она уже успела стать почти родной…
Начинается регистрация на рейс СУ-531, Москва – Кабул, пролетело над залом объявление, спетое милым женским голосом. По привычке я не стал смотреть на черное табло с расписанием отправки самолетов, а завертел головой по залу отлета. Что-то изменилось, но что именно? Это я понял только минут через пять, когда глаз так и не остановился на «Шанхае». Так я называл толпы одетых в гражданское военных людей с чемоданами и коробками, устремлявшихся обычно наперегонки к воротам таможенного пропуска и месту регистрации билетов. Пришлось идти к табло и смотреть, где производится регистрация. Левая сторона, ворота номер два. Человек шесть соотечественников, четыре афганца. Все, больше никого нет. Юрий Тыссовский, с которым мне предстояло работать в Афганистане после вывода войск, уже прошел таможню и передвигал постепенно свой скарб к ленте багажа. Перевес уже не имел значения – пассажиров почти не было, и если бы мы захотели, ТУшка (Ту-154-М) повезла бы в Кабул хоть тонну нашего груза.
– И куда же это вас, мальчики, несет? Все оттуда, а вы туда. Средних лет подтянутая женщина в синей униформе и очках смотрела поверх экрана, по которому ровными рядами проплывали очертания бутылок и бесформенные черные свертки – обернутая в фольгу замороженная свинина и тушки домашних птиц.
– Не растряси, – сказала она напоследок и отвернулась в противоположную от ленты-транспортера сторону.
– Виталий, прими отбывающих, я отлучусь на пару минут. Женщину-таможенника на посту сменил плотно сбитый, низкорослый черноволосый парень.
– Здорово, Андрюха. Не узнаешь?
Как тут не узнать. Виталя Пономаренко. Сокурсник, военный переводчик в группе Главного военного советника в 1979–1980 годах. Кабул, Газни. Жили вместе в одной квартире 115-го блока в новом микрорайоне почти год. И потом уже, в середине 80-х, часто в Кабуле встречались, в свободные вечера играли в преферанс. На публике обниматься было негоже. Мы отошли в сторону и проговорили минут с двадцать. Когда прощались, мне подумалось, что это, наверное, хорошая примета – встречать друзей перед долгой разлукой с Родиной. Впрочем, друзья и знакомые, побывавшие в Афгане, встречались буквально на каждом шагу. Лично у меня создалось такое впечатление, что в этой стране отвоевало и отработало пол-Москвы, однако я мог и заблуждаться.
В кабинке паспортного контроля симпатичная девушка-пограничник, внимательно изучив мой напрочь заштампованный вязью синий паспорт, вдруг улыбнулась и сказала: «Возвращайтесь, Андрей Борисович, поскорее. Удачи Вам».
После таких проводов-встреч настроение заметно улучшилось, и я, решив не изменять наработанной годами традиции, зашел в буфет на втором этаже аэропорта, торгующий на советские деньги. Принял положенные перед отлетом сто граммов и, закусив двумя бутербродами с дефицитной красной рыбой, пошел проходить еще один таможенный досмотр…
Не груженый самолет резво оторвался от земли и понес группу энтузиастов к столице солнечного Узбекистана. Натурально, он был практически пустой. В первом классе уселась пара знакомых советников-«дипломатов», которые сразу же открыли бутыль «Джонни Уокера». Все остальные пассажиры – всего было от силы человек пятнадцать – также разместились там, где можно было вытянуть ноги. Я сказал Тыссовскому, что хочу спать, и пошел в задний салон, на свое любимое место, около туалета. Там тоже можно было вытянуть ноги, не опасаясь раздавить что-нибудь в засунутой под переднее сиденье чужой сумке. Обычно здесь раньше толпились очереди в туалет, а от дыма сигарет нечем было дышать. Но зато если уж ворвался первым на это заветное место (номера мест в билетах не проставлялись), то четыре часа безмятежного сна были обеспечены. Сразу же огораживал завоеванное свободное пространство своими сумками, отпихивал ногами и руками чужой скарб, которым проворные военные советники (мошаверы) и военные специалисты (мосташары) стремились обложить мое кресло. Все было просто как день. Из Афгана все везли на родину магнитофоны. Сначала «Трайденты», потом «Шарпы». В Афганистан везли спиртное, замаскированное в банках из-под компота и в резиновых грелках. Опасаясь, что их могут разбить или раздавить при погрузке и разгрузке, технику и стекло вволакивали в салон. Из-за своих габаритов магнитофоны в отделения для ручной клади, расположенные над головой, не умещались, и их старались приставить кому-нибудь под ноги. Здесь уже начинал действовать закон джунглей. Твой магнитофон – вот и ставь его себе хоть на голову. А мне дай вытянуть ноги. Все попытки использовать для размещения своего багажа служебное положение обычно разбивались о незатейливое: «А пошел ты на…» Обычно, получив такой отпор, подполковники и полковники удалялись со своим скарбом и возобновляли попытки пристройки своего багажа уже под ноги своим подчиненным.
В этот раз мой багаж зашкалил за 250 килограммов. Вез многочисленные посылки знакомым от их родных. В аэропорту также не смог отказать двум женщинам, передававшим посылки мужьям, которые должны были остаться в Кабуле после вывода войск. Откинув спинку своего кресла и сложив переднее сиденье вперед, я вытянул ноги и прикемарил. Мне снился чужой багаж. Вообще, с ним было связано много смешных историй. В 1985 году супруга моего товарища – оператора телевидения Вадима Андреева передала мне для него две бутылки коньяку. Сели на кабульском аэродроме. Самолет еще двигается по рулежке. Вдруг дверь справа отъезжает, и в нее один за другим начинают запрыгивать бойцы кабульского спецназа, облаченные в экспериментальную «песочку». Все с автоматами. Публике в самолете делается дурно – думают, произошло ЧП. Потом кто-то, подтолкнув, видимо, под задницу,
Вадика, закидывает его толстое тело в салон. Вадик начинает орать дурным голосом: «Андрей Грешнов, ты где?». Благо я сижу недалеко от двери, машу ему рукой. Ну, думаю, хоть замолчит. А он опять давай орать: «У нас борт на Кандагар отъезжает, давай коньяк!!!» По рядам пустили две бутыли. Вадика спецура приняла на руки на земле. В иллюминатор вижу – бегут к рампе серого Ана… У «спецов» в руках бутыли, у Вадика камера «Бетакам» наперевес как огнемет у фашиста. Слетали они тогда безрезультатно. Однако Вадиму при посадке в Кандагаре пулей из ДШК на излете эту-то камеру и разбило. А он и не заметил. Когда приземлились, рассказывал, что взял ее за ручку, да так одну ручку и поднял. Все остальное рассыпалось на части. Но зато коньяк невредимый долетел до Кандагара. Смехи… Нет, лучше уж действительно заснуть.
Старый ташкентский аэропорт, которого сейчас уже нет, навсегда запомнился всем, кто через него когда-либо летел транзитом в Афганистан, тремя достопримечательностями. Первая – эскалатор, везущий публику снизу, от желтых светящихся букв «Т О Ш К Е Н Т» в зал ожидания. Вплоть до 1989 года над правым поручнем висели засиженные мухами большие плакаты из кинофильма «Тегеран-43». Портреты артистов Джигарханяна и Белохвостиковой. Вторая – буфет при отлете, в котором все затаривались местным пивом и вином. На бутылках по-русски были написаны узбекские слова – «пивоси» и «виноси». Вино и пиво в Афганистане были дефицитом. Третьей и самой главной достопримечательностью узбекского аэропорта были его гадкие таможенники, которые выдавливали, нюхали и рассматривали на свет даже зубную пасту из тюбиков, пытаясь, наверное, в ней отыскать бриллианты или золотую пыль. Эти же узбеки отнимали у наших «срочников», возвращавшихся с войны домой, магнитофоны, кейсы с подарками для родных. Однажды у меня на глазах здоровенный десантник с медалью на груди, летевший домой через Ташкент, разбил на таможенном посту о каменный пол дешевенький магнитофон, сказав при этом: «Не мне, так и не вам, крысы!».
Кабул. 5 января 1989 года
ТУшка спокойно и плавно села на бетонку. Вертолетов прикрытия в воздухе уже не наблюдалось, тепловые ракеты-ловушки не отстреливались, да и вообще на поле стало заметно просторней – слева от башни стояла пара Ми-24, чуть поодаль белого цвета Ан-26. Ближе к горам, в северной части аэродрома, лежал давно сгоревший неопределенного цвета афганский борт, вернее, то, что от него осталось. Остальное летающее железо куда-то испарилось. Настроение сразу упало. Что я забыл в этой глуши? И вообще, зачем я сюда прилетел? Вспомнилось очень странное и урезанное до предела оформление в длительную командировку на работе. Никто никуда не вызывал, ритуального посещения отдела ЦК КПСС не было, задач никто не ставил. Просто сунули в руки хранившийся в отделе кадров паспорт и снабдили билетом. Как будто хотели закрыть мной черную дыру под названием Афганистан.
В те дни ежедневно центральное телевидение транслировало выступления «демократов», речи Горбачева, наверное, одному ему и понятные. Громоздкая партийная структура трещала, хотя еще и продолжала функционировать. А Горбачев, что Горбачев… Он стал единственным президентом СССР, который с приходом к власти не поздравил в Новый год военных, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Помнится, в свое время это больно резануло по сердцу, и не только меня одного. Все предыдущие генсеки никогда не забывали этого делать, а вот этот забыл или просто не захотел.
Афганских таможенников, слава богу, на посту в зале прилета, как громко именовалась небольшая застекленная комната с двумя деревянными скамьями – местом досмотра, – не было, иначе пришлось бы вести жаркие дискуссии о содержимом коробок и чемоданов, напрягать афганских друзей. На выходе уже поджидала веселая компания – все без исключения сотрудники ТАСС, которым просто уже нечего было делать. Срок их командировки закончился, и теперь они маялись бездельем в ожидании своей очереди на отлет или отъезд с колоннами войск домой.
Почти все советские граждане улетали в Союз. Пустые самолеты гоняли в Кабул лишь для того, чтобы вывезти огромное количество специалистов, советников и их багаж… Семьи вывезли чуть раньше. Народ, арендовавший квартиры в «старом» и «новом» микрорайонах афганской столицы, сгоняли ближе к посольству, селили компактно на виллах, чтобы хоть как-то обеспечить порядок и безопасность. В городе царила вакханалия. Армейцы сдавали в дуканы все, что можно было продать, – от военной амуниции и продовольствия до одеял и простыней. Базары так насытились продуктами из валютных армейских «Березок», что впоследствии они продавались на внутреннем рынке еще несколько лет. Особо ценилась превосходная армейская говяжья тушенка – банки, упакованные в солидол и обернутые пергаментом. В 86-м году по чьему-то приказу были вскрыты и направлены в Афганистан стратегические армейские запасы продовольствия. До армии они дошли лишь частично. В основном все оказалось на афганских базарах. Эту тушенку, в которой вовсе не было жира и жил, а только чистое мясо и немного желе, можно было резать ножом как твердую колбасу. Греческий сок, голландский газированный напиток «Си-Си», польская и венгерская ветчина, зеленый горошек, подсолнечное масло, комбижир, сгущенка, чай и сигареты – все, что было в свое время недодадено голодным бойцам Советской армии, было продано афганским торговцам.
Случались и курьезы, которые просто невозможно забыть. Одну из афер, проведенных нашими прапорщиками в канун вывода войск, можно отнести к разряду выдающихся – как по замыслу, так и по исполнению. История с «нерсиками» еще несколько лет после ухода 40-й армии будоражила умы считавших себя самыми умными и хитрыми афганских торговцев. Группа находчивых военных решила реализовать на внутреннем рынке ни для чего не пригодные пластиковые колпачки от неуправляемых реактивных снарядов авиационного боекомплекта. Пластмассовый конус при желании можно было использовать только как рюмку-стопку, и то, только воткнув его в песок. Другого предназначения колпачку так никто и не придумал. В середине января работала первая группа талантливых аферистов, которая рыскала по дуканам (лавкам) и выспрашивала у торговцев, нет ли случайно в продаже «нурсиков». Когда торговцы пытались интересоваться, что это такое, следовала фраза: «А, тебе все равно не понять. Очень нужная вещь, правда, очень дорогая». Торговцы любопытствовали, где можно приобрести столь замечательный товар. К концу января на рынке появились первые «нурсики». Вторая группа аферистов сбывала их дуканщикам по нескольку ящиков зараз. Одновременно их подельники, рыскавшие в поисках «нурсиков», тотчас же скупали их уже по взвинченной владельцами дуканов цене. Это продолжалось до тех пор, пока группа дукандоров (владельцев магазинов), решившая как следует подзаработать, не скинулась и не приобрела у находчивых молодых людей два КамАЗа «дефицита». На этом операция «нурсик» и завершилась. Попытки афганцев вытребовать свои деньги назад в советском посольстве ни к чему не привели. Им просто ответили: «Не зная броду, не лезь в воду».
Поначалу я поселился на «дальней» вилле, где за праздным времяпрепровождением и монгольской водкой «Архи» коротала дни и ночи группа отработавших свой контракт соотечественников. Но в конец оборзевшие «товарищи» стали подобно гуннам уничтожать привезенную мной с родины снедь. Почти четверть тонны замороженной свинины и курятины, которую я намеревался растянуть до конца своего пребывания в Афганистане. Я твердо знал, что это энзэ и его нужно спасать, и поэтому переселился на основную виллу, где проживали Юрий Тыссовский и инженер Саша, с которыми мне предстояло ощутить веяния нового времени после ухода наших войск. Вместе со мной, к огорчению сослуживцев, переехала в ТАССовские холодильники и еда.
Однако привезенного продовольствия все равно бы на год не хватило. И в первые же дни своего приезда я направился на территорию АЭС (аппарат экономсоветника) в продуктовый магазин, к которому прикрепили всех остающихся на чужбине. По дороге я встретил группу товарищей, отбывающих в СССР. Среди них одетый в черное модное пальто и ондатровую шапку стоял офицер безопасности посольства, у которого при виде меня глаза полезли на лоб. Он никак не ожидал меня увидеть здесь после высылки на родину осенью 1987 года. Человеком он был нормальным. После той памятной аварии, в которую я попал, он, сколько мог, не давал хода делу и не отсылал рапорт в Москву. Его стараниями дело было практически «замято». Но спустя два месяца один из высокопоставленных дипломатов решил проявить инициативу и послал подробный отчет об инциденте в три адреса в Москву, самым «безобидным» из которых оказался министр иностранных дел. Офицера безопасности и его коллег долго склоняли по этому поводу в их ведомстве. Однако, как показала действительность, несмотря ни на что, он остался верен принципу порядочности офицера, прописав мне положительную характеристику, которую я в Москве по случаю и прочитал. Он объяснил мне, что теперь его обязанности будет исполнять его коллега из торгпредства – товарищ Гоев.
С Гоевым жизнь меня сталкивала еще в середине 80-х. Проживавшие в 8-м блоке старого кабульского микрорайона, в соседнем со мной подъезде, некоторые руководящие работники гражданского медицинского контракта исправно доносили ему в виде памятных записок некоторые эпизоды из моей личной жизни, наивно полагая, что я об этом не знаю. Гоев на это никак не реагировал, по крайней мере, официально. Лишь однажды у нас произошло небольшое трение, которое, впрочем, разрешилось за несколько минут разговора. В 86-м году во время визита Шеварднадзе сотрудники аппарата помощника посла по административно-правовым вопросам получили строгое указание на территорию посольства и торгпредства никого проживающего за их пределами, не пускать. Однако у меня серьезно заболела малолетняя дочь. Так как она еще не умела говорить, понять, что у нее болит, было невозможно, как и получить квалифицированную медицинскую помощь от педиатра. В военном контракте в микрорайоне такового просто не было. Единственный детский врач был в торгпредской больнице, так что визит в торгпредскую больницу носил чисто вынужденный характер. Не буду приводить подробности разговора по телефону, которым я овладел в будке дежурного коменданта на втором посту, с Гоевым. Скажу лишь, что он проходил на повышенных тонах. Однако благоразумие возобладало, и я был допущен в больницу. После этого я сделал вывод, что он – человек разумный. К слову сказать, тот визит в больницу все равно никакой пользы не принес. В ней в основном врачи работали «блатные», то есть чьи-то родственники, квалифицированной медицинской помощи я от них не получил. Все равно пришлось по совету моего соседа и друга нейрохирурга Юры Кудряшова обращаться в афганскую клинику. Это вообще была песня. Соблюдая меры предосторожности и представившись голландцем, я нанес визит в клинику, где провел переговоры с врачом на английском языке. Специалисты взяли у грудного ребенка анализы крови. В этом мне серьезно помогла супруга, владеющая английским в совершенстве. В результате я испытал несколько неловких моментов. Первый – когда врач вышел на улицу и увидел, что я сажусь не в какую-нибудь «Тойоту», а в советскую «Ниву» с зелеными номерами. И второй – когда он подошел ко мне и сказал на чистом фарси, что ему безразлично, кто я по национальности, и что врачи помогают всем, и «даже советским». Как бы то ни было, но американский аппарат исследования крови выдал точные результаты, обозначив выявленную дизентерию и ее подгруппу, а также лекарственные препараты, необходимые для приема внутрь ребенком.
Поговорив с полчаса у забора посольства и пожелав друг другу удачи, мы расстались с офицером безопасности и больше никогда в жизни не встречались.
Попав в торгпредский магазин, директором которого к этому моменту был назначен некий Станислав, который в Москве работал директором продуктового магазина на Водном стадионе, я поразился обилию выбора продовольствия и ширпотреба. В магазин было свезено все добро из армейских чековых магазинов, которое по разным причинам не смогли вывезти в Союз. Остающимся в Афганистане после вывода войск для снятия стресса была существенно увеличена норма отпускаемого спиртного – до четырех бутылок молдавского конька «Белый аист» и четырех бутылок сухого вина. Пиво продавалось неограниченно. На отоваривающихся был составлен реестр – большая тетрадь, где в специально отведенных графах продавцы ставили галочки напротив определенной группы нормированных товаров и продуктов питания, выбранных покупателем. Такая практика раньше действовала повсеместно. Когда я работал в военном контракте, то точно так же ходил в специальный продуктовый магазин и напротив моей фамилии ставили галочки. Однако во все годы войны норма отпуска спиртного составляла всего две бутылки крепких напитков, к общегосударственным праздникам полагалось еще две.
Моему переезду на другую виллу, пожалуй, было радо только одно существо. Это была собака.
Щенка Тинку в ТАСС отдали саперы на исходе 88-го. Я при этой торжественной церемонии, к сожалению, не присутствовал, потому что был откомандирован на родину из Кабула с формулировкой «во избежание кровной мести» после участия в ДТП и наезда на афганца. Но после того, как в Москве сняли «общественное порицание» (ЦК настаивал на «строгаче» с занесением в учетную карточку, но первичная парторганизация распорядилась по-другому), я пинком под зад был отфутболен на «вторую родину».
Радостное четвероногое существо с заваливающимся на бок левым ухом называлось овчаркой. Причем восточноевропейской. На военно-человечье погоняло «Дина» оно не отзывалось, всем своим видом показывая, что его родители к войне не имели ни малейшего отношения. Оно носилось по чаману, рыло мордой морковь и редиску, тут же их уничтожая. Пило из бассейна, а потом с разбегу летело обниматься и целоваться, нанося грязными толстыми лапами и вымазанной мордой непоправимый ущерб гардеробу. После порчи хозяйской носильной одежды оно заваливалось на спину, требуя почесать живот, при этом издавая звуки, сходные с руладами американки Тины Тернер. Так к этой чертовке и прилипло имя – Тина.
Юра Тыссовский (кличка – Тысс) тоже по-своему любил эту собаку. Так как сам он страдал язвой желудка, то в Тинкин рацион на постоянной основе входила каша. Правда, с приправой в виде тушенки. То ли от неумеренного потребления злаков, то ли через гены родителей-саперов у собаки развилась странная особенность: она полюбила овощи. С удовольствием воровала и уничтожала сырой репчатый лук, морковь, картошку и другие корнеплоды. Исключение составляли лишь помидоры и огурцы, к которым она не проявляла ни малейшего интереса. В общем, настоящая советская собака.
О том, чтобы посадить на чамане (внутреннем дворе) какие-нибудь полезные растения, теперь речи даже и не заходило. Тина, как голодный китаец, тут же выкапывала луковки и чесночные дольки, справедливо полагая, что все найденное ею в земле – не хозяйское, а ее добыча. Я в то время еще желудком сильно не страдал. После всяких тифов, амеб и палочек, а также препаратов для их уничтожения желудок стал луженым, и я частенько жарил себе мясо. Даже Тыссу иногда делал паровые котлеты. Тут Тина просто не находила себе места, проявляя чудеса смекалки и воли к победе в борьбе за белок. Стоило лишь на секунду зазеваться и отвернуть глаза от размораживаемого деликатеса, как он тут же исчезал в ее пасти. Причем делала она это молниеносно и тут же ложилась на пол, закрывая глаза и всем своим видом показывая, что ей на кухне ничего не нужно, кроме хозяйской компании. Я поначалу даже грешил на Горыныча (корреспондента телевидения Горянова) и инженера Сашу, которые иногда присоединялись к моей трапезе. Но потом понял, откуда ветер дует, и стал применять другую тактику. Миску с разморозкой ставил в кладовку при кухне, а дверь запирал на ключ. Теперь можно было спокойно ехать работать и не сомневаться в том, что Тинка будет караулить если не виллу, то дверь в кладовку. За выдержку и терпение, проявленные при охране заветной двери, я награждал ее кусочками мяса и куриными конечностями.
Однажды, вознамерившись вновь ощутить себя благодетелем и кормильцем, я вынес миску на кухню и медленно, по-иезуитски, стал нарезать кусочки для себя и для Тинки. Я нюхал мясо и чмокал, издавая звуки, от которых у бедной собаки сводило челюсть и лилась слюна. Когда я, наконец, взял в руку первый кусок мяса и попросил собаку предварительно поплясать, она внезапно с громким обиженным лаем бросилась на меня, свалив со стула. Пока я поднимался, скотина успела молниеносно затолкать в свою утробу все находившееся в миске мясо. А я так и остался полусидеть-полустоять на полу с маленьким кусочком, зажатым в правой руке. Было обидно и смешно. Довольная Тина примостилась рядом и с благодарностью стала лизать мне лицо, исподволь поглядывая на мою правую руку. Но это было уже слишком. Я заорал нечеловеческим голосом: жрать хотелось как из пушки, а размораживать очередную порцию надо было часа два-три. В результате я уподобился собаке: начал грызть луковицу, закусывая ее хлебом и листом салата. «Ну ты и дур…» – язык как-то не повернулся назвать дурой это лучезарное существо. Скорее в роли дурака на этот раз выступил я сам. Получилось дурр…ында. Больше это прозвище не менялось.
Дурында была очень веселой и дружелюбной собакой. За всю свою недолгую жизнь так никого и не сумела укусить. Но по мере того как она росла, вид ее становился все более и более устрашающим. Когда ей удавалось выскользнуть незамеченной за ворота нашего учреждения, мы узнавали об этом по диким крикам афганцев, которые в ужасе карабкались от нее на стены. Но в отличие от предыдущего нашего пса Марсика, она вовсе и не собиралась никого кусать. Все люди, независимо от запаха и цвета кожи, были ее друзьями. Она валила с ног и шурави (советских), и афганцев лишь с одной целью – как следует вылизать им лицо.
Марсик, кстати, умирал очень тяжело. Его укусило в морду какое-то гадкое насекомое. Возник нарыв, в котором завелись личинки. Лечить он себя не давал – мог запросто прокусить руку. Я его старался усыпить димедролом, подложенным в еду, а потом спящему промыть рану перекисью водорода. Заставлял жрать в диких количествах антибиотики. Но это не помогло. Мы похоронили верного пса в правом дальнем углу нашего чамана. За «дурочкой из переулочка» присматривать было значительно легче. Чуть что – хвать ее за длинный «клюв», и обрабатывай ей марганцовкой что хочешь. Она особо и не вырывалась – верила, что люди ей плохого не сделают, только при виде оружия начинала истошно брехать, брызгая слюной. Со стоическим «спокойствием», правда, кося глазом, давала лапу – и занозу вытащить, и так просто, поздороваться. Нафаров (слуг) не гоняла, не то что Марсик.
Чтобы Дурында не писала в доме (гадила-то она, как и положено, на чамане), Тысс решил оставлять ее ночевать на улице. Однажды вечером, решив ее проведать, я встал с дивана и вышел на улицу. Бедняга тряслась от холода и тихо повизгивала от человеческой несправедливости. Пришлось впустить ее в дом, а утром выторговать у начальника право для собаки спать в неотапливаемой прихожей. Но хоть под крышей, а не на улице. Правда, беднягу и там колотило. Наверное, раньше жила у наших солдат в теплой каптерке. Тогда пришлось вступить с собакой в молчаливый тайный сговор. Она – не ссыт на ковре, я – впускаю ее ночью через балконную дверь на первый этаж в свою комнату. И чтоб ни звука. Дурында была благодарной собакой. Тихо прокрадываясь в гостиную, она сначала облизывала мне лицо, а когда я закрывался с головой колючим верблюжьим одеялом, принималась за пятки. Это излияние благодарности длилось минут пятнадцать, после чего девочка ложилась на пол рядом с диваном на мою куртку и тихо, как мне казалось, засыпала. Я тут же «отрубался». Но вволю поспать все же не удавалось. Где-то посреди ночи я чувствовал, что на и без того тесном диванчике лежать становится просто невозможно. Дурында, дождавшись, пока я усну, залезала на кровать ко мне в ноги, а потом потихоньку протискивалась между телом и стоячими плюшевыми подушками. Лишь потом тихо засыпала. Порой ей ночью снились страшные сны, и тогда она начинала ворочаться. Я стал частенько просыпаться на полу – благо диван был низкий, а ковер толстый. Овчарка, развалившись на моем месте, спала как большой ребенок, по-человечьи положив голову на мою подушку, а грязные лапы – одну на другую. Однажды, встав раньше обычного, эту «иддилию» застал Тысс. Подвел черту: «А ну вас обоих к Евгении Марковне! Только если еще раз она в гостиной нассыт, сам на чамане будешь спать!»



