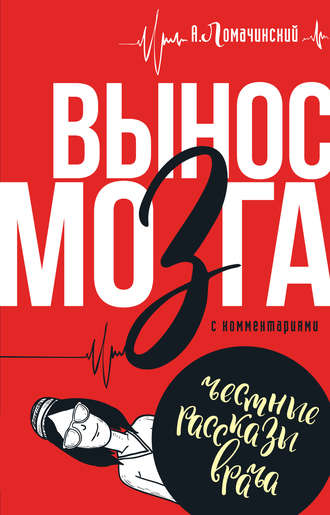
Андрей Ломачинский
Вынос мозга. С комментариями (сборник)
Как проверить на химеризм? Да просто, если есть деньги. Тестов много придётся сделать. В крови ничего инородного не нашли, так это нормально – кровь из одной стволовой клетки развивается, там вероятность смешения небольшая. Надо теперь проверить слизистую рта, влагалища и заднего прохода, а потом надёргать волос из разных частей тела и проверять их по отдельности. Анализов пятнадцать минимум. Будет желание платить – приезжайте!
Денег Рита наскребла всего на четыре теста. Решили проверить слизистые рта и влагалища, а также лобковые волосы и волосы с самой макушки головы. И тут пришла удача буквально в первом анализе! ДНК слизистой рта была абсолютно аналогична ДНК крови, за одним маленьким исключением. Если бы эксперт, не зная подоплёки исследования, глянул на пики сканограммы, то его заключение было бы однозначным – данный образец контаминирован! То есть засорён в минимальных количествах ДНК постороннего человека. Наряду с главными пиками на графиках появлялись малюсенькие вторичные пики «грязи», или второго донора-контрибьютора, если говорить тем языком, что используется для доказательства изнасилований. Только этот «вторичный донор» полностью укладывался в профиль настоящей генетической матери Риткиного ребёнка! Значит, в слизистой рта у неё уже есть клетки со вторым генетическим набором.
Волосы с макушки головы были абсолютно идентичны ДНК крови Маргариты, а вот волосы с лобка безоговорочно принадлежали матери её ребёнка. Ещё интересней получилась генетическая картина мазка слизистой влагалища, – в общем, она отражала картину слизистой рта, но с точностью до наоборот! Главным контрибьютором там выступила мать ребёнка, а то, что до этого считалось Риткой, вышло в форме «вторичного загрязнения».
Когда Рита положила перед адвокатами свои собственные изыскания, у тех снова глаза загорелись азартным блеском. Как же, как же, неопровержимые доказательства материнства. Блеска совести или вины перед клиентом за бездарно проигранные дела там не возникает – у хорошего адвоката такие чувства достаточно быстро атрофируются в процессе профессиональной деятельности. Профпатология такая, что попишешь, вредное производство…
После «распила» всего «совместно нажитого» и Ритке, и ребёнку её, и всей этой кодле изрядно денег перепало. Тому, что мать оказалась матерью, один новорусский папаша был не рад. Хотя уж кому-кому об этом не знать!
Голубая Эмма
Однажды в Клинику общей хирургии «скорая» привезла бабулю интеллигентного вида. Седенькая и сероглазая, в ней ничего не выдавало еврейку. Почти ничего. Кроме, конечно, имени. Эмма Аароновна Зин… э-э-э… Зингельшмуллер, если не ошибаюсь, – уж очень длинная фамилия. И ещё – у неё была татуировка на руке. Расплывшийся от времени неровный многозначный номер, страшная отметина фашистских лагерей смерти.
Бабушка корчилась от острой боли в животе, но татуировка настолько заинтриговала врача, что тот нарушил классический порядок опроса больного и первым вопросом спросил, откуда у неё эти цифирки. Оказалось, из самого знаменитого места – из экстерминационного лагеря Аушвиц. Старший лейтенант Барашков аж подпрыгнул от любопытства. Не часто встретишь выжившего узника… Но тут подошёл профессор, и зелёному адъюнкту Барашкову пришлось унять свою любознательность. «Итак, Эмма Ааароновна, когда заболело, где и как, что принимали, чем хворали?»
Старлей принялся старательно мять ей живот, проверять симптомы. Классическим аппендицитом назвать нельзя, но всё равно похоже. Боль в спину отдаёт – наверное, забрюшинный или ретроцекальный… Одна только странность в анамнезе: бабка утверждала, что подобные боли, только не такие сильные, периодически беспокоят её лет сорок.
Тогда Барашков такому странному факту никакого значения не придал. У бабки небось склероз, вот и считает любую случавшуюся боль в животе «такой же». Без шуток – сорокалетних хронических аппендицитов не бывает.
Так, с диагнозом понятно, экспресс-анализ крови пришёл, можно докладывать профессору. Профессор выслушал адъюнкта и со всем согласился. Раз там ничего особенного, давай-ка, молодой человек, сам делай операцию. Случай учебный, великого опыта не требует.
Старший лейтенант моется, берёт в ассистенты кого-то из старшекурсников и становится к столу. Учитывая возраст пациентки, решают оперировать под общим обезболиванием. Подошёл анестезиолог, минутка – и бабушка в наркозе. Н у, с Богом, начали!
Когда вскрыли брюшную полость, первое, что удивило старлея, – это нормальный отросток. Из тех, что на жаргоне «синими» называют. Никакие они не синие, а нормальные, бледные, без малейших признаков воспаления. И лежал такой отросток не ретроцекально, а открыто. Бери – не хочу. Барашков уже хотел его вырезать, так, на всякий случай, чтобы хоть как-то оправдать операцию, но тут его внимание привлекло нечто непонятное. Там, где слепая кишка прилегает к брюшной стенке, была заметна некоторая припухлость. Эх, жаль разрез маленький! Не зря говорят, большой хирург – большой разрез. А мы пока мелковатые…
Тут старлей вспомнил, что для ассистента он ведущий хирург, смутился и принялся учить: «Смотрите, слушатель, там, похоже, какой-то желвак. Поэтому не будем гнать лошадей. Не зря бабка сорок лет на боли в этом месте жаловалась. Там, за слепой кишкой, скорее всего, сидит набухший лимфоузел. А может, и опухоль… Короче, рассечём этот бугорок, возьмём кусочек для патанатомов – пусть злокачественное новообразование исключат».
Ассистент придавил слепую кишку, и за ней сразу проступило нечто компактное, твёрдое и «холодное». «Холодное» не на ощупь. На ощупь оно такое же тёплое, как и всё внутри живота. На хирургическом жаргоне «холодным» называют то, что не имеет признаков острого воспаления. Барашков смело чиркнул по инфильтрату скальпелем. Скальпель упёрся во что-то, потом соскочил с лёгким скрежетом, как железом по стеклу. Старлей удивлённо хмыкнул. Ранка практически не кровила – стенки действительно оказались склерозированными, словно старый рубец. Похоже, что злокачественной опухолью здесь и не пахло – у них рост обычно инвазивный, въедливый, опухоль буквально прорастает в окружающие ткани. Ободрившийся Барашков отступил на сантиметр и небольшим полукруглым разрезом обошёл непонятный инфильтрат. Потом засунул в разрез палец, подобрался под этот комочек и буквально вылущил нечто размером с грецкий орех. Вот так легко и просто! Всё же большой хирург из Барашкова вполне может получиться…
– Ого, какая твёрдая! Фиброма, должно быть. В любом случае, опухоль доброкачественная, – сказал довольный старлей, держа находку на ладони.
Операционная медсестра подставила эмалированную плошку, и Барашков небрежно стряхнул в неё красный шарик.
– А чего оно такое… скрипучее? – поинтересовался ассистент.
Барашков хмыкнул: «Кто его знает! Небось кальций… Разрежем – увидим. Только не сейчас, после операции. Вдруг там какой инфекционный очажок? Не охота бабуле брюхо бактериями обсеменять».
Адъюнкт, насколько позволял боковой разрез, осмотрел брюшную полость, но ничего подозрительного больше не нашёл. Пора ушиваться. Операцию закончили быстро. Больную переложили со стола на каталку и повезли в послеоперационное отделение.
Теперь надо всё описать в истории болезни, а чтобы описание было полным, неплохо бы изучить находку. Барашков принёс в ординаторскую баночку с консервантом и плошку. Уселся поудобней за стол и попытался рассечь непонятное образование ровно пополам. Опухоль со скрежетом выскользнула из-под лезвия в сторону. Старлей удивлённо взглянул на скальпель. Остро отточенная кромка затупилась, чуть погнувшись в виде небольшой зазубрины. Тогда адъюнкт взял комочек двумя пальцами и легонько сдавил. Из него прыснула капелька гноя, а следом со звоном выпрыгнул небольшой объект правильной конической формы. Ничего не понимающий доктор погонял эту круглую пирамидку по плошке скальпелем. Та звенела, словно стекляшка. Тогда Барашков плеснул туда чуть консерванта. Раствор смыл кровь, и перед взглядом изумлённого доктора предстал красивый кристалл, прозрачный, но с выраженным голубоватым оттенком, при этом играющий на гранях всеми цветами радуги. Что это? Драгоценный камень? Да нет – крупноват для камня. Если только какой малоценный… Скорее всего, бижутерия, гранённая под бриллиант стекляшка.
Когда рассекли пустую склерозированную массу, там ничего интересного не оказалось – типичный старый рубец, просто со свежим воспалением. Молодец Барашков, что не стал такое резать в чистой операционной. Впрочем, скальпель-то он туда всё же тыкал!.. Надо бабушке срочно антибиотики назначить.
В общем, теперь понятна история этого инфильтрата. Когда-то бабка проглотила эту цацку. Скорее всего, случайно. Такая круглая штуковина обычно без помех проходит желудочно-кишечный тракт. Однако произошёл довольно редкий случай – в районе слепой кишки эта стекляшка стала. Возможно, роль сыграло индивидуальное анатомическое положение того места, где тонкий кишечник соединяется с толстым. Дело в том, что входит он туда сбоку, под прямым углом, и у Эммы Аароновны этот угол оказался весьма высоко. Образовался своеобразный слепой мешок, где твёрдый и тяжёлый предмет вполне может задержаться. Инородное тело давит на стенку кишечника, образуя там выемку – пролежень. Слепая кишка одной стороной прилежит к брюшной стенке, и стекляшка постепенно «вгрызлась» туда. Такие случаи известны и нередко заканчиваются плохо. У данной же больной обошлось – кишка зарубцевалась изнутри, запечатав объект в ретроцекальном пространстве. После воспалительного процесса образовалась рубцовая ткань. Но микробы всё равно попадали туда, время от времени вызывая воспаления. Это объясняло и периодические боли справа внизу живота, и образование толстой фиброзной капсулы вокруг инородного тела. Осталось только спросить, помнит ли сама больная, как она проглотила эту цацку.
Наутро Эмма Аароновна отошла от наркоза и чувствовала себя вполне нормально. Хотя чувствовать себя совсем нормально после того, как тебе отключали мозги и резали живот, довольно проблематично, поэтому Барашков записал в истории болезни: «Состояние удовлетворительное». А в ответ на закономерный вопрос «Доктор, что у меня там?» устроил маленький спектакль – демонстративно достал из разных карманов две баночки и помахал ими перед носом у своей пациентки. В одной склянке в жидкости плавал круглый шматочек «мяса», весь в белёсых лохмотьях и с резаной дыркой. В другой же, в сухой, позванивая и сверкая, катался светло-голубой кристалл.
– Не узнаёте?
Такой реакции пациентки адъюнкт не ожидал.
Руки её затряслись, губы задрожали. Забыв про боль, Эмма Аароновна изо всех своих старушечьих сил вцепилась в барашковскую руку. Старлей хоть и был худощав, но весьма рослый и силой обладал порядочной.
– Тихо, тихо, тихо! Швы же разойдутся! – Он бережно уложил больную обратно на подушку и снял её дряблые старческие руки со своего запястья.
На глаза Эммы Аароновны навернулись слёзы:
– Доктор, пожалуйста, отдайте его мне! Ну, пожалуйста! Очень прошу вас, отдайте!
– Что именно?
Вместо ответа бабуля прикусила губу:
– Ну, это… Украшение… Отдайте, умоляю!
Видно, цацка очень дорога для бабули. Старлей принялся успокаивать её:
– Эмма Аароновна, да берите, конечно! Уж коль из вас вырезано, то вам и принадлежит. Хотя как учебный препарат эта стекляшка была бы намного ценнее для нас, чем…
Адъюнкт не успел договорить, как его челюсть опять отвисла от удивления. Бабулька схватила пузырёк и тут же вытрясла из него кристалл себе в рот! А потом, крепко сжав челюсти, уставилась на Барашкова испуганными глазами.
Опешивший старлей не знал что и сказать.
– Эмма Аароновна… Мы, это… Никто тут ничего не собирается… Да вытащите вы эту дрянь изо рта! Не ровен час, опять проглотите, что тогда? Вторую операцию делать?!
Бабулька нехотя выплюнула кристаллик в свой сухонький кулачок и теперь смотрела на адъюнкта жалостливо, виновато и как-то совсем беззащитно. Потом она, как малый ребёнок, засунула руку под себя, словно всё ещё боялась, что молодой человек станет отнимать её драгоценность. А ведь вчера производила впечатление полностью психически здоровой, образованной женщины… Что за буря эмоций? Сомнений нет – момент проглатывания бабуся должна помнить отлично.
Чтобы успокоить больную, Барашков стал задавать типично медицинские вопросы о самочувствии, о газах, попросил дать другую руку, чтобы померить пульс. «Нормальность» стала постепенно возвращаться к Эмме Аароновне. Она переложила кристаллик в левую руку и хотя всё ещё держала его зажатым в кулачке, но под себя уже не прятала. Да и больно ведь это делать со свежей операционной раной!
Барашков аккуратно осмотрел её живот, бережно помял брюшную стенку в районе разреза. Похоже, обошлось без инфекционных осложнений, хотя рано ещё судить, денька три ещё подождать надо. По ходу дела он с подробностями рассказывал весь ход операции, как за слепой кишкой нашёл инфильтрат, что он думал и как извлёк находку. На лице больной напряжение и страх сменились выражением благодарности. Адъюнкт понял, что пациентка успокоилась и можно задавать вопросы.
– Всё же хотелось бы знать, как вы эту штуку проглотили? И вообще, мне хотелось бы вас порасспрашивать о…
Эмма Аароновна мягко прервала старлея:
– Молодой человек… Вы уж меня извините, но сейчас я вам ничего рассказать не могу. Знаете, эта стекляшка… Цена ей копейка, конечно. Копейка цена! Но память… Она мне дорога как реликвия. Как воспоминание о моей жизни, моей семье. Конечно, спасибо вам большое, но прошу вас… Мне хотелось бы отдохнуть.
Барашков хмыкнул и вышел из палаты.
После обеда адъюнкт снова осмотрел старушку. Бабуля пребывала в прекрасном настроении, и её удовлетворительное состояние стало ещё удовлетворительней. Свою блестяшку она по-прежнему держала в кулачке.
– Ну что ж, Эмма Аароновна, будем вас переводить из палаты интенсивной терапии в общую.
Когда санитар привёз каталку, бабка всё же не удержалась и опять положила кристалл в рот. Там она его и держала всё время, пока снова не оказалась на койке. И похоже, когда она спала, тоже держала его за щекой.
В послеоперационном блоке режим строгий, а в общие палаты уже пускают посетителей. В тот же вечер к Эмме Аароновне приехали сын и невестка. Лысеющий мужчина в тёмной замшевой куртке и подчёркнуто строго одетая женщина. Видать, семья с достатком, вон какие гостинцы матери привезли, а ещё свежий номер «Иностранной литературы» и томик стихов. Но бабку чтиво не интересовало. Она обняла сына, а потом наклонила его голову вплотную к своим губам и принялась что-то долго ему шептать. Слушая мать, сын с недоверием глядел в пустоту, а потом, не сдержавшись, громко воскликнул: «Не может быть!» В завершение рассказа бабуля что-то украдкой передала ему в руку. Всё ещё не веря услышанному, сын ошалело посмотрел на свою жену, а потом подал ей знак пройти к окну. Повернувшись к жене, он хотел было что-то ей показать, но вдруг заколебался и осмотрел палату.
Одна койка пустует – заправленная чистым бельём, дожидается нового пациента. Обитательница другой, молоденькая толстушка с каким-то пластиковым мешком сбоку, только что, кряхтя и постанывая, вышла в туалет. Соседка матери, крепкая сорокалетняя женщина, наверное из рабочих, увлечённо смотрит юмористическую передачу по маленькому переносному телевизору и, похоже, никакого интереса к их разговору не проявляет. Одна мать неодобрительно качает головой.
Мужчина взял ладонь жены и положил туда синеватый кристалл, что передала ему мать. Вечерний мягкий свет скрадывал игру цветов на гранях. Женщина без всякого благоговения равнодушно смотрела на безделушку. Потом она нахмурилась, взяла её и, будто желая убедиться в каких-то своих догадках, провела гранью по стеклу. Раздался скрежет, как от стеклореза, и на окне осталась царапина.
– Невероятно…
Это совершенно не понравилось бабушке Эмме:
– Домой идите! И чтобы ни слова. Нигде и никогда! Поняли?
Сын и невестка понимающе закивали, потом принялись по очереди целовать мать и, бормоча пожелания скорейшего выздоровления, быстро удалились. У Эммы Аароновны от волнения разболелось сердце и закружилась голова. Она дотянулась до кнопки вызова медсестры. Хоть корвалолу, что ли, попросить… Вскоре появилась сестричка, померила давление, посчитала пульс и вызвала дежурного терапевта. Похоже, нервы у бабульки порядочно разбуянились за сегодня. Капельками тут не обойдешься, пришлось назначать инъекцию. Укол подействовал, и ночь прошла благополучно.
Утром следующего дня адъюнкт Барашков сидел за историей болезни Эммы Зингельшмуллер и всё никак не мог решить маленькую проблему – назначать бабке консультацию психиатра или повременить? Решил повременить, а вот если и сегодня она откажется ему свою историю рассказывать, вот тогда и позовём соответствующего специалиста. Его доклад на утренней конференции об извлечении инородного тела был выслушан с интересом, но особого ажиотажа среди сотрудников не вызвал. Больше всего сотрудников раздосадовало, что такое забавное инородное тело Барашков умудрился в первый же день отдать хозяйке, у которой абсолютно нет никакого желания рассказывать свою историю. Бабку навестили доцент с курсантской группой и сам профессор, но та им тоже ничего не сказала, сославшись на слабость и плохое самочувствие. Врёт ведь! Нормальное у неё самочувствие. Ну, пойдём послушаем, что бабушка скажет нам сегодня.
Нацепив очки и высоко подложив под плечи подушку, Эмма Аароновна читала в своей кровати «Иностранную литературу». Женщина рядом так же смотрела телевизор, правда, почти без звука. Впрочем, утром там всё равно ничего путёвого не было. Толстушка с пластиковым контейнером сосредоточенно вязала шарфик. Последняя кровать всё так же была пуста. Барашков поздоровался со всеми и прошёл в палату. Женщины, не отрываясь от вязанья и телевизора, буркнули себе под нос ответное приветствие. Похоже, по молодости адъюнкта его тут за большого специалиста не считали. Старлей присел на краешек бабулиной койки. Вообще-то дурной тон, следовало бы стульчик взять, но молодому доктору казалось, что таким образом он завоюет хоть капельку больше доверия этой скрытной бабцы.
А бабка оказалось вовсе не такой уж и скрытной. Она охотно отвечала на вопросы, а когда дело дошло до номера на её руке, то вообще рассказала интереснейшую историю. До революции её предки обитали в Санкт-Петербурге и, судя по всему, не бедствовали. Однако воспоминаний об этом времени у неё нет – родилась она сразу перед революцией. Помнит, что в НЭП их семья жила в просторной квартире и имела прислугу. Потом всё это ушло, как её отца забрали. Чтобы спастись от возможных репрессий, мать с дочкой уехали к каким-то далёким родственникам, что жили под Минском. Там же Эмма закончила школу, потом Минский политехнический институт. Училась она хорошо, осталась при кафедре, стала подумывать о диссертации. Но через два года началась война. А ей всего двадцать шесть…
Через неделю немцы уже стояли под Минском, а ещё через неделю начали забирать евреев. Тогда её не взяли по чистой случайности – она возвращалась домой, когда выводили мать. Та сделала вид, что дочь ей не знакома. Таким образом светленькая Эмма спаслась в первый раз. Находиться в Минске ей было нельзя, слишком много людей знали о её еврейском происхождении. Оставался только один выход – податься куда-нибудь в незнакомое село, сославшись на то, что родная хата сгорела. У колхозников ведь не было паспортов, а значит, это единственная возможность избежать проверки документов и соответственно установления национальности. И неизбежной смерти.
Минуя патрули и заставы, Эмма ушла из города в никуда. Обосновалась на маленьком хуторке, где пожилая белоруска стала выдавать её за свою племянницу Василину. Так прошёл ещё один год. Эмма привыкла к новому имени, привыкла к тому, что надо копать мёрзлую землю на полях, искать прошлогоднюю гнилую картошку, а потом тереть её на деруны – этакие пахнущие гнилью оладьи. Руки загрубели, а говорить она старалась мало – боялась своего городского выговора, а с виду ведь селянка селянкой! Но вот немцы стали набирать местных для работы в Германии. Молодая Эмма-Василина попала туда. Её группу привезли под Гюнтерсблюм, на юге Германии, и распределили как бесплатную рабсилу по фермерским хозяйствам. Работа была вполне по силам – подвязывать виноградники, обрезать да убирать виноград, следить за птицей и свиньями. Симпатичная Эмма, и до Германии сносно знавшая немецкий, бюргерам нравилась, её не обижали и вполне сносно, а порою даже очень хорошо, кормили. Дожила она в Гюнтерсблюме аж до осени 1944 года, когда, на своё несчастье, встретилась со своей землячкой-одноклассницей. Видать, она-то и заложила Василину, что та Эмма Циммерман.
За Эммой приехало СС. Не помогли ни похвалы хозяина-бюргера, что, мол, очень хорошая работница, ни её собственные причитания, что случилась досадная ошибка. Эмму даже ни о чём не спрашивали. Офицер СС просто глянул на неё и бросил одно слово – юден! Потом её привезли на какую-то станцию, там она и ещё человек сорок евреев долго стояли в тесном помещении. Подошёл поезд, и их стали запихивать в товарные вагоны, где и так уже было битком людей. Поезд пошел на восток. Через сутки прибыли на место назначения – Аушвиц. Это если по-немецки. Или в Освенцим, если по-польски. Музыка Вагнера из громкоговорителей, колючая проволока под напряжением и собаки за ней, часовые с пулемётами на смотровых вышках… А ещё труба и чёрный жирный дым.
Пожалуй, это конец. Но не сразу – Эмма была физически крепкой, поэтому её оставили для работ. Средняя продолжительность жизни таких «счастливчиков» меньше шести месяцев. Однако это были последние недели Освенцима – с востока по Польше продвигалась Красная Армия. Узники рассказывали, что порою видят в небе английские и американские бомбардировщики, а соседний химический завод уже давно лежит в руинах. Но тут нечто важное нарушилось в немецкой педантичной машине. Если раньше баланды давалось немного, но регулярно, то сейчас кормить перестали совсем. А тут ещё Эмма заболела и… И спаслась второй раз! Случись такое всего неделей раньше, и она стопроцентно оказалась бы в газовой камере. Но сейчас камеры уже не работали – слышна была советская канонада. Не работал и крематорий – трупы пытались сжигать штабелями во рву, но и на такое не хватало ресурсов. Здоровых заключённых вначале гоняли заметать следы, однако это дело быстро оставили. Всех, кто мог идти, построили в колонны и погнали на запад – знаменитый «марш смерти», прочь от советских войск. Оставшихся – кого убили, а кого просто бросили умирать.
Несмотря на сильную дистрофию и болезнь, Эмма не умерла – подошла Красная Армия. Особой медицинской помощи не было. Наладили питание протёртым супом, потом организовали порционную выдачу хлеба и маргарина. Эмме и тут повезло вдвойне. Худая и страшная, она всё же сохранила намёки на свою первоначальную красоту. Солдаты её заметили и определили при медчасти, что развернулась неподалеку. Через месяц молодой организм окреп, и её отправили назад, в Россию. Привезли в специальный реабилитационный лагерь, где до этого лечились ленинградские блокадники. Там она ещё пробыла недели две, а потом вместе с последними ленинградцами снова оказалась в своём родном городе. Таком же, как она сама, – истерзанном, полностью истощённом, когда-то доведённом до крайности, но живом. В послеблокадном Ленинграде вновь закипала жизнь; также возвращалась жизнь и в душу Эммы. Она повстречала молодого фронтовика, тоже еврея. Жить в Питере под «репрессированной» фамилией Циммерман ей не хотелось, и она быстро стала никому не известной и труднопроизносимой Зингельшмуллер. Вот и вся жизнь.
Похоже, что бабуля сама была не прочь выговориться. Барашков поблагодарил её за интересный рассказ, но посетовал, что главного-то он не услышал.
– Так вы эту, м-м-м… реликвию с собой в концлагерь брали?
Оказалось, что да. И не только в концлагерь. Эта никчёмная побрякушка, стекляшка, цена которой, конечно же, копейка, просто как память досталась её отцу от деда. Мать уберегла её, когда отца взяли. С нею они не расставались никогда – хранили в своей бедной квартире в простенькой шкатулочке. Однако у этой бижутерии-стекляшки была неплохая оправа из белого металла. «Нет, не из платины, что вы, откуда… Из серебра». Так вот, в тот день, когда собирали минских евреев, Эмма вытащила из неё дешёвую стекляшку, а саму оправу понесла менять на что-нибудь съестное. Получается, что так эта безделица в первый раз спасла ей жизнь. Саму же серединку она зашила в уголок ватника и тоже постоянно таскала с собой. Вроде как ничего не стоящий, но для неё бесценный семейный талисман-спаситель.
В этом ватнике она попала в Германию. Там ей жена бюргера отдала своё старое пальто, и Эмма перепрятала стекляшку под его подкладку. А уж когда её взяло СС как еврейку… Тут уже нигде не прячешь – там на проверках даже рот заставляли открывать, а блочницы-капо могли залезть вообще куда угодно. Но она постоянно держала свой талисман во рту. А когда подходил проверяющий, просто глотала его. В громаднейшем же лагерном туалете Эмма всегда садилась на краешек, где в жиденьких фекалиях найти свой амулет ей было просто. Она обтирала его, и тут же бирюлька снова отправлялась в рот. Да, рисковала, да, может, из-за этой дешёвой бижутерии подвергала себя неоправданному риску, но ведь это же талисман. И оказалось, талисман не подвёл! Под конец лагерного ада при очередной проверке Эмма проглотило стёклышко, а оно из неё не вышло. Напрасно Эмма обшарила каждый сантиметр этого грязного уголка в туалете. Напрасно проделала то же самое ещё много раз, надеясь, что её стекляшка где-то «заблудилась» или застряла. Голубенького кристалла не было. Она посчитала, что просто потеряла его, ведь порой надзирательницы-капо давали на оправку всего тридцать секунд. А потом она заболела… Как оказалось, это талисман образовал пролежень в её дистрофичной толстой кишке и тем самым спас ей жизнь во второй раз. Ведь из тех здоровых, кого погнали «маршем смерти» на запад, выжили максимум десятки из тысяч.
Барашков с сомнением покачал головой. Адъюнкт был закоренелый материалист, в судьбу и талисманы он не верил. Хотя тот факт, что голубенький амулетик спас бабкину жизнь дважды, внушал определённое уважение. Переваривая услышанное, адъюнкт бесцельно поглядел в другую сторону. Толстушка с пластмассовым мешком на боку сидела с открытым от удивления ртом. Похоже, её спицы неподвижно застыли ещё в самом начале бабкиного рассказа. В глазах молодой женщины стояли слёзы. Сорокалетняя «пролетарка», наоборот, казалось, ничего не слышала, полностью углубившись в утреннюю новостную программу.
– Эмма Аароновна, скажите, а где сейчас ваш талисман? Меня уж вся кафедра достала, спрашивают, почему я не принёс его на пятиминутку всем показать, а сразу вам отдал.
Бабке вопрос явно не понравился.
– Э-э-э… доктор, так сейчас-то мне в нём какой толк? Мне помирать скоро! Вон отдала родственникам… Э-э-э… Племянница в институт будет поступать, пусть ей эту безделицу передадут, поди, на экзаменах поможет!
Тут «работяга» впервые оторвалась от своего телевизора:
– Доктор, да не верьте вы ей! Врёт она внаглую!
В разговор тотчас же вступила толстушка с пластиком на боку:
– Ну зачем вы так говорите о пожилом человеке?! Она еврейка, и татуировка у неё, вон, из концлагеря… Всё сходится!
«Пролетарка» презрительно хмыкнула:
– Чё сходится? Да я не за её жизнь говорю-то! Брешет бабка, что стекляшку она глотала. Доктор, ты к окошку подойди. Посмотри, какую царапину ейная невестка на окне той стекляшкой оставила! Нашли дуру! Стекля-а-шка, гы-гы! Брильянт то. Небось рублёв пятьсот стоит, а то и все восемьсот. Поставь его в оправу, там в кулончик золотой или в кольцо, токо штоб толстенькое, такое, знаешь, солидное, так и целу тыщу дадуть! Нашли дуру, стекло-о-о! Гы-гы…
Пусть даже бабка врёт, а «пролетарка» права. Старший лейтенант медицинской службы, врач-хирург, кафедральный адъюнкт и будущий преподаватель Барашков получал двести восемьдесят рублей денежного довольствия. Это без дежурств. А так и за триста выходило. Врач на гражданке имел сто двадцать целковых, рабочий – рублей сто пятьдесят – двести. Пятьсот рублей, конечно, состоянием не являлись, да и тысяча тоже… Хотя деньги считались приличными – целый месячный оклад начальника его кафедры! Но нет, не стал бы он всё равно из-за такого жизнью рисковать.
Барашков напоследок быстренько прощупал у Эммы Аароновны живот и вышел из палаты. Больная поправляется, а химический состав инородного тела его больше не интересовал. Для него эта история закончилась.
Для меня она бы тоже закончилась, если бы не один случай. Я этот день хорошо помню – назавтра исполнялось ровно десять лет, как я прожил со своей женой. Втихую от неё поднакопил кое-каких денежек и решил сделать жене роскошный подарок – кольцо с бриллиантом. В чём в чём, а в камнях я совершенно не разбираюсь. Поехал в Санрайз-Молл. Цены везде такие, что закачаешься. Тут, смотрю, объявление висит: «New York Diamonds 50 % off», магазин «Нью-йоркские бриллианты», скидка пятьдесят процентов. Это типа как «Одесская артель московские баранки» – «Нью-Йорк Даймондз» и в Техасе, и на Аляске есть. Я туда. Жене подарок выбрал, в бюджет почти уложился, довольный, коробочку в карман прячу и тут вижу – брошюрка на прилавке лежит. Такая бесплатная цветная книжонка на десяток страниц. Дай, думаю, возьму почитаю, что там люди бриллиантового бизнеса пишут. Интересного оказалось мало – краткий ликбез по критериям оценки камней, потом объявления о распродажах, какой-то каталог, а вот в конце несколько картинок крупных бриллиантов мировой известности.
Вообще-то именные камни живут всегда дольше людей. Они сменяют вереницы хозяев, листая наши судьбы, как страницы. Вот и у этого камня новая судьба. Интересная картинка с аукциона «Сотбис» – фотография красивого голубоватого алмаза старой классической огранки пирамидкой-«розой». Написано, что какой-то индус его себе прикупил. Король металлолома, что ли… Всего за шесть миллионов долларов. А имя у этого бриллианта… «Голубая Эмма»!!! И подпись в полторы строки: «Этот бриллиант из семейной династии старых еврейских ювелиров, имеет драматическую историю, в частности, пережил холокост». Никакой больше конкретики. А больше и не надо – таких совпадений не бывает. Тут только одно случайное совпадение – шесть миллионов. Доллар на жизнь. Вот знал бы Барашков, что он тогда вырезал!



