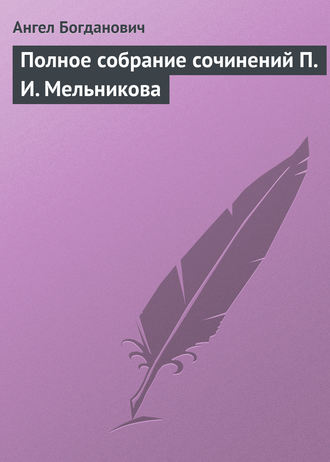
Ангел Богданович
Полное собрание сочинений П. И. Мельникова
О его научныхъ работахъ по расколу можно говорить лишь съ большими оговорками. Въ нихъ нѣтъ ни научнаго безпристрастія, ни желанія критически разобраться въ богатомъ матеріалѣ, который, благодаря условіямъ службы, самъ собою накопился въ рукахъ Мельникова. Говоритъ-ли онъ о раскольникахъ или о сектантахъ, какъ хлысты и молокане, предъ нами не ученый, не безпристрастный изслѣдователь, безкорыстно радующійся новому открытію, а всегда и вездѣ чиновникъ, прежде всего взирающій на начальство, которому онъ во что бы то ни стало стремится угодить. Бранчивый тонъ, прокурорскіе пріемы и неблаговидное толкованіе самыхъ глупыхъ слуховъ и толковъ – таковъ Мельниковъ-ученый. Образцомъ его ученой критики можетъ служить ужасное обвиненіе, которое онъ по слухамъ возводитъ на хлыстовъ, будто они причащаются тѣломъ младенца, рожденнаго отъ избранной ими въ богородицы дѣвушки. Мельниковъ подробно, съ обстоятельностью, не уступающею добросовѣстности знаменитаго отца Блинова въ его работѣ о человѣческомъ жертвоприношеніи у вотяковъ,– описываетъ всю процедуру причащенія у хлыстовъ и только въ концѣ вскользь бросаетъ замѣчаніе, что "юридически ни разу самый фактъ причащенія тѣломъ младенца установленъ не былъ". Ни гдѣ, ни однимъ словомъ онъ не упоминаетъ, откуда взяты имъ эти подробности, а самое краснорѣчіе описанія внушаетъ даже не критически расположенному читателю подозрѣніе, что все это сплошная выдумка. Если же принять во вниманіе, что подобный вздоръ помѣщался Мельниковымъ въ оффиціальныхъ докладахъ, имѣвшихъ прямое вліяніе на судьбу сектантовъ, то для всякаго, надѣемся, яснымъ становится, какъ велики права Мельникова на "уваженіе 800 лѣтъ потомства". А между тѣмъ, этотъ человѣкъ дѣйствительно зналъ много и могъ бы знать еще больше, но чиновникъ и сыщикъ убили въ немъ научнаго изслѣдователя, и весь этотъ матеріалъ, наполняющій три тома въ изданіи его сочиненій, представляетъ теперь научный хламъ, лучше сказать – труху казенщины, отравившей талантливаго человѣка и выѣвшей у него и душу, и умъ. Да, и умъ, ибо Мельниковъ, при всей даровитости, былъ неумнымъ человѣкомъ. Не смываемая печать пошлости лежитъ на всемъ, что онъ писалъ, на всѣхъ его работахъ по расколу, на его повѣстяхъ и разсказахъ и больше всего на его романахъ "Въ лѣсахъ" и "На горахъ". Сказывается эта пошлость въ любованіи своими подвигами, о которыхъ онъ разсказываетъ въ дневникѣ, напечатанномъ Усовымъ, въ его проектахъ и мѣрагь противъ раскола. Но сильнѣе всего пробивается она въ тонѣ его художественныхъ произведеній. Такъ, лучшій изъ его небольшихъ разсказовъ "Старые годы", написанный наполовину въ видѣ разсказа отъ лица стараго крѣпостного, весь проникнутъ благоговѣйной восторженностью предъ старымъ временемъ. Если такое настроеніе можно допустить въ старикѣ крѣпостномъ, то тамъ, гдѣ авторъ повѣствуетъ отъ себя, это настроеніе производитъ впечатлѣніе искусственности, выдавая головой авторскій взглядъ и его глубокое пониманіе старины. Въ этомъ отношеніи Мельниковъ напоминаетъ Лѣскова. Какъ и послѣдній, онъ – писатель безъ мѣры и безъ твердаго собственнаго взгляда на вещи. Не онъ матеріаломъ, а матеріалъ имъ владѣетъ. Онъ не можетъ установить на него опредѣленной точки зрѣнія и сразу впадаетъ въ дѣланную восторженность, переходящую въ его романахъ въ сантиментализмъ и пошловатое восхваленіе якобы народной жизни, которую Мельниковъ не понималъ совершенно, что съ особой очевидностью онъ доказалъ въ двухъ самыхъ крупныхъ своихъ произведеніяхъ "Въ лѣсахъ" и "На горахъ", которыя развѣ по недоразумѣнію можно считать художественнымъ воспроизведеніемъ народнаго быта.







