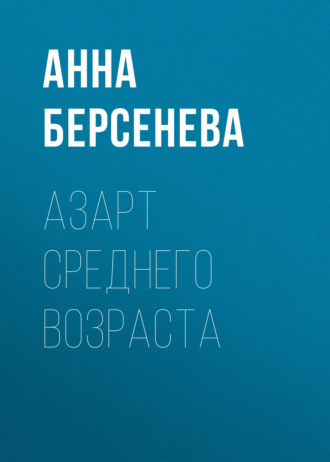
Анна Берсенева
Азарт среднего возраста
Аннушка потрогала львиную лапу, провела одним пальцем по гриве и сказала:
– Эффектный. Только непонятно, зачем он.
– Вы так рациональны? – усмехнулся Александр.
И тут же пожалел о своей неуместной иронии. Он ведь и сам не очень понимал, зачем ему это чучело.
– Да, – отрубила Аннушка. – Я рациональна. И не чувствую к вам ничего, кроме легкого интереса.
Когда она сердилась, то становилась ничуть не менее привлекательной, чем когда смеялась. У нее было очень живое лицо, и даже от самой легкой перемены чувств оно играло чудесным разнообразием.
– Интерес – это мало? – спросил Александр.
– Для меня – мало. Во всяком случае, в данный период моей жизни.
Она произнесла это таким серьезным тоном, что Александр чуть не расхохотался. Слышать о периодах жизни от двадцатилетней девчонки было весело.
– Чего же вам хочется в данный период вашей жизни? – изо всех сил сохраняя на лице серьезное выражение, поинтересовался он.
– Мне хочется влюбиться.
«То есть квартира, машина и три шубы уже имеются, теперь можно себе позволить излишества, – подумал Александр. – Что ж, влюбляйся, милая, я готов!»
– Поедемте в ресторан, Аннушка, – сказал он. – Думаю, на льва вы уже насмотрелись.
– Не понимаю, Саша, вы циничны или парадоксальны?! – воскликнула она. – Или просто дурочкой меня считаете? Блондинкой из анекдота?
– С чего вы взяли? – он сделал честные глаза.
– С того, что, как только я начинаю говорить о чем-нибудь серьезном, вы сразу меняете тему.
– Просто я догадываюсь, чего вам захотелось, на полсекунды раньше, чем вы сами начинаете это сознавать, – объяснил Александр. – И ваши новые желания становятся новой темой нашего разговора.
Он мог бы объяснить еще, что желания ее так незамысловаты, что догадаться о них нетрудно, как бы она ни старалась предстать перед ним сложной натурой. Но зачем бы он стал это объяснять? Ему нравилось перебрасываться с нею этими прекрасными мячиками: когда слова говорят одно, а все, что есть у тебя внутри, совсем другое, и это другое так просто, так молодо, и ты счастлив оттого, что оно еще есть в тебе, оказывается.
Аннушка перестала хмуриться и улыбнулась.
– На вас трудно сердиться, – сказала она. – Мне в самом деле захотелось в ресторан. Только не в придорожный.
– Я понял, понял, – кивнул он. – Если потерпите час-другой, доберемся до устриц.
Ему не жаль было, что они с Аннушкой не добрались до очередной комнаты доморощенного хантинг-рума – до той, где стояла кровать. Он не чувствовал разочарования от так бездарно проведенного дня, наоборот, этот день восхищал его своим несовершенством, своей распахнутостью в будущее.
«До всего мы еще доберемся, – молодо звенело у него в груди, когда они шли к машине. – Все у меня с тобой еще впереди!»
Глава 5
Александр с первого дня решил, что головной офис его компании должен находиться в самом центре Москвы.
Не то чтобы он любил пускать пыль в глаза – просто считал правильным не скрывать определенные приметы своего успеха, которые были востребованы в том мире, в котором он благополучно существовал. Он знал, что большинство людей не только встречают по одежке, но по ней же, а вовсе не по уму, впоследствии и провожают. И хотя сам он старался общаться с теми, кто с ходу разбирается, где одежка, а где ум, но играть роль экстравагантного миллионера, который располагает офис в окраинном полуподвале и является на правительственный прием в рваных джинсах, Александр не стремился.
Да и любил он старый московский центр. Просто любил, и все. Однажды открыл окно своего кабинета и услышал, как из остановившегося внизу троллейбуса донеслось: «Следующая остановка – переулок Сивцев Вражек», – и сердце у него занялось таким счастьем, какого он не чувствовал от самой выгодной сделки.
Может, права была сестра Вера, когда говорила:
– Я-то гадаю, в кого у меня сын поэт. Так в дядю родного!
Поэтом Александр себя, конечно, не считал, но какая-то чудесная загадка в московской топонимике, безусловно, была, и он эту загадку чувствовал.
И, приходя каждый день на работу к себе на Арбатскую площадь, чувствовал, что приходит вот именно к себе, в свою вотчину.
Сегодня с утра он назначил совещание, на котором собирался принять окончательное решение о развитии своей компании на Дальнем Востоке. Он уже давно заказал аналитикам все необходимые материалы по ситуации в регионе, и съездил туда не раз, и завел там правильные связи, в том числе и во время медвежьей охоты. И вот теперь надо было определяться: двинутся ли они на Дальний Восток, и какими силами, и когда.
Корабли «Ломоносовского флота» давно уже ловили рыбу не только близ Мурманска, но и в Англии, и в Норвегии, и в Канаде, и в Марокко. Александр приглядывался уже и к Чили. А недавно вот загорелся Дальним Востоком и со всегдашним своим упорством стал исследовать это новое направление.
До совещания, назначенного на девять утра, он хотел переговорить с Пашей Герасимовым. Пашка только что вернулся из Владивостока, куда Александр отправлял его, чтобы тот разузнал, действительно ли будет продаваться компания, которую Александр намерен был купить. Компания была крепкая, с хорошими квотами на вылов краба. Но ходили осторожные слухи, что хозяин собирается ее продавать: вроде бы у него нелады со здоровьем.
Надо было выяснить, насколько эти слухи основательны. Именно Пашка был для такой быстрой миссии незаменим, и не только потому, что они дружили с детства и Александр знал, насколько тот надежен. Дело было еще и в том, что, не разбираясь в тонкостях человеческих отношений и не стремясь поэтому в них влезать, Пашка с ходу определял то, что было в людях главным, и уже исходя из этого с ними взаимодействовал.
Вообще обязанности Пашки в «Ломоносовском флоте» были обширны и, на посторонний взгляд, неопределенны. Он был и помощником Александра, и послом для особых поручений, и кем угодно еще. Единственное, на что он никогда не соглашался, это на руководство людьми.
– Не умею я этого, Саня, – объяснял он. – Кто захочет, на голову мне сядет, а я и повезу.
Впрочем, Александр не считал отсутствие начальнического таланта недостатком. У Пашки хватало других достоинств. А то, что связывало их всю жизнь, вообще зависело от чего-то другого, чем достоинства и недостатки.
Входя к себе в кабинет, Александр сказал секретарше, чтобы вызывала Герасимова, а сам, не садясь за стол, быстро просмотрел бумаги, разбрасывая их по степени важности. Он делал это машинально, лишь поверхностно вникая в их смысл – и потому, что секретарша у него была опытная и бумаги были уже рассортированы нужным образом, и потому, что мысли его витали далеко, не обращаясь к насущным делам.
Александр с удивлением понял, что, ожидая Пашку, вспоминает о своей первой встрече с ним. Это было очень странно – с чего бы вдруг? И тут же он догадался, что вспоминает даже не о самой встрече, а о том времени, когда она случилась. Он умел мгновенно анализировать и внешние ситуации, и собственные мысли, выявляя в них причинно-следственную связь, поэтому быстро понял, откуда эти мысли пришли и почему.
Это были мысли о молодости. И явились они из-за Аннушки. Сейчас, когда он видел ее не прямым, а мысленным взглядом, то понимал, что было главным в их вчерашней встрече, что зацепило его сознание. Это были ее слова: «Я хочу влюбиться». В ту минуту, когда она их произнесла, они не вызвали у Александра ничего, кроме снисходительной усмешки. А сейчас он вдруг почувствовал: в нем есть все для того, чтобы она его любила, и ему хочется, чтобы она его любила.
Это чувство было таким давним, таким забытым, что сначала даже показалось ему новым, неизвестным. Но потом он все-таки понял: просто оно было тесно сплетено с молодостью, это чувство. Эта жаркая, горячая потребность того, чтобы его любили, сама была молодостью, а значит, была Аннушкой.
Александр сел за стол, взъерошил волосы на затылке – осталась мальчишеская привычка ерошить их в минуты волнения. Когда-то мама за это ругала, потому что такие минуты случались в его жизни постоянно, и постоянно он ходил из-за этого растрепанный.
А тот год, когда он познакомился с Пашкой, весь состоял из таких минут.
Сашка приехал в Колу позже всех, кто собирался участвовать в весенних соревнованиях байдарочников. Колой этот городок назывался по реке: он стоял в самом устье, там, где она впадала в Кольский залив. Но в городке Сашка пробыл недолго, даже не успел его толком рассмотреть, потому что поехал к месту соревнований, которые проводились за городом, где речка Кола изобиловала порогами.
Он впервые ехал один так далеко – сначала поездом от Москвы до Мурманска, потом автобусом до Колы, теперь вот совсем уж маленьким, раздолбанным рейсовым автобусом дальше, к редким приречным селам. Плавать на байдарках прежде приходилось только на узеньких подмосковных речках, и все эти заплывы казались какими-то тренировочными. А тут – все по-настоящему!
Мама, конечно, боялась его отпускать, тем более что из-за экзаменов за девятый класс, которые ему ни за что не соглашались перенести, ехать пришлось отдельно от общей группы. Но отец сказал, чтобы мама не волновалась, и она тут же успокоилась. Не смирилась, а вот именно успокоилась. Мама верила каждому слову отца. И Сашка тоже.
Он ехал и радовался своему одиночеству так, как – он этого, конечно, еще не понимал – может радоваться ему только счастливый человек и только в ранней юности, когда одиночество означает не тоску или оставленность, а лишь свободу для будущего.
Сашке было известно, до какого села он должен доехать, а дальше следовало расспросить кого-нибудь из местных, где находится лагерь байдарочников.
Он и вышел из автобуса в этом селе, точнее, в некотором отдалении от него; деревенские дома едва виднелись в стороне от дороги, в быстро густеющих северных сумерках.
Сашка спрыгнул с автобусной подножки и огляделся. Под ржавым козырьком остановки сидела на щербатой лавочке компания из пяти парней. На вид они были его ровесниками, лет по пятнадцать.
Автобус зашипел дверцами и, дребезжа, потащился дальше. Парни молча разглядывали приезжего, и даже не столько его самого, сколько его новенький, со множеством карманов рюкзак.
Сашка был не из тех, кого принято называть уличными пацанами. Мама следила за тем, чтобы он не бегал где-то с утра до ночи, а уделял время книжкам, да он и сам любил читать. Впрочем, попытка отдать Сашеньку в музыкальную школу вместе с Верочкой встретила решительный с его стороны отпор, несмотря на то что преподаватели в один голос называли его слух чуть ли не абсолютным. Но, в общем, увлекательное занятие под названием «гонять собак» отнимало не все его время. Однако он обладал быстрым и точным умом, так что и этого времени ему хватило, чтобы к пятнадцати годам отлично разбираться в особенностях не скованных условностями человеческих отношений.
С первого же взгляда на хмурых пацанов Сашка понял, что по-доброму он с ними вряд ли разойдется. Но не убегать же было от них! Тем более что и спросить о расположении лагеря, кроме них, было не у кого.
– Привет, – сказал он.
– Здорово, – ответил только один мальчишка, рыжий и лохматый.
Остальные сделали вид, будто приветствие обращено не к ним.
Ну да не очень были нужны их приветы.
– Где тут у вас байдарочники лагерем стоят? – спросил Сашка.
Пацаны молчали.
– Вон там, – наконец махнул рукой рыжий. – Километра три.
– Спасибо, – сказал Сашка и, не прощаясь, пошел по дороге.
Он спиной чувствовал вонзившиеся ему в спину взгляды, и расслабляться под этими взглядами явно не стоило.
Конечно, он не ошибся. Пацаны догнали его сразу, как только он скрылся за поворотом дороги. Сашка успел резко обернуться за секунду до того, как один из них, самый высокий – впрочем, не выше, а даже ниже Сашки, – успел сбить его с ног коротким тычком в спину.
Кулак долговязого попал в пустоту. Кричать что-нибудь возмущенное, вроде: «Пятеро на одного, да?!» – не имело смысла. Тем более что их было уже не пятеро, а четверо: рыжий куда-то исчез.
– Давай мешок! – отрывисто, зло бросил долговязый.
Вместо ответа Сашка двинул его кулаком в ухо. Ну, не объяснять же, в самом деле, почему он не собирается отдавать им рюкзак и вообще выполнять их требования.
Через пять минут драка была в разгаре. Хоть Сашка был не по годам высок ростом и широк в плечах – сказалось плавание на байдарках, да и просто плавание, которым он занимался с первого класса, – но против четырех деревенских парней ему было, конечно, не выстоять. Они все-таки сбили его с ног и набросились все вместе. От чьего-то сильного удара огнем загорелась скула и потемнело в глазах.
– Э, ты че?! – сквозь звон в ушах вдруг услышал Сашка. – Ты за этого фраера, че ли, да?!
Он не столько увидел, сколько догадался, что парни отвлеклись от него, и тут же вскочил на ноги, хотя минуту назад ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Голова гудела, но он уже не обращал на это внимания.
Парни отвлеклись от него только потому, что набросились на рыжего. Пожалуй, даже с большим остервенением, чем только что на Сашку.
– На своих… за этого… гада… да?! – наперебой орали они.
Рыжая голова мелькала между их кулаками. Не раздумывая, Сашка бросился в гущу драки.
Вдвоем против четверых – это уже было полегче. Тем более что рыжий оказался крепким парнем, да и Сашкины силы от поддержки удвоились. Но перевес с их стороны все-таки не был решающим, и не похоже было, что победа дастся легко.
– Эт-то что тут такое?! – вдруг прогремело у них над головами.
Голос был такой грозный, что местные, как воробьи, порскнули в разные стороны. Сашка и рыжий остались одни в кипящем кругу только что бурлившей драки. Перед ними стоял мужчина лет сорока и смотрел суровым взглядом.
– Кто такие? – рявкнул он. – Что здесь делаете?
– Ломоносов, – тяжело дыша, сказал Сашка. – Александр Ломоносов. Я на соревнования байдарочников приехал.
– О! – обрадовался мужчина. – Так это я тебя, значит, к автобусу встречать иду? – И тут же сделал еще более суровое лицо. – Хорош спортсмен! Не успел до лагеря добраться, уже в драку влез.
– Это не он, дядь, – вступил в разговор рыжий. – Это его… ну… его в драку влезли.
Изъяснялся рыжий коряво, но смотрел при этом прямо. И чувство, которое выражал взгляд его больших миндалевидных глаз, тоже было прямым.
– Его в драку влезли? – усмехнулся мужчина. – Ладно, разберемся. Пошли в лагерь. Меня зовут Анатолий Степанович, – представился он. – Отвечаю за вас, гавриков. Чтобы вас в драку не влезали.
Сашка взял рюкзак и собрался уж было идти за Анатолием Степановичем. Но оглянулся и увидел, что рыжий стоит на месте.
– Ты что? – сказал Сашка. – Пошли.
– Да я-то чего пойду? – уныло шмыгнул носом тот. – Я ж не ваш…
– Наш, наш, – махнул рукой Александр. – Все равно же тебе к ним возвращаться нельзя, – проницательно добавил он.
– Это да, – кивнул рыжий. – Переждать бы надо. Пашка меня зовут.
Рыжий пошел рядом по тропинке. Деревья здесь, на Севере, были карликовые, и шум их маленьких веток не нарушал тишины.
– Слушай, – спросил Сашка, – а с чего ты вдруг за меня драться полез? Они же тебе свои.
– И что с того, что свои? – пожал плечами Пашка. – Все равно не по справедливости это.
Он не возмущался, ничего не доказывал. Просто смотрел этим своим прямым, спокойным взглядом, в котором выражалось только одно чувство – то же самое, которое он называл словами, неважно, отчетливыми или корявыми. И эта прямота, эта простота и ясность чувств и мыслей была в нем главной, составляла самую его сущность.
– Ты на байдарке умеешь плавать? – спросил Сашка.
– На лодке могу. На байдарке не пробовал.
– Ничего, мы на неделю сюда. Научишься.
– А не попрут меня с вашего лагеря? – опасливо поинтересовался Пашка. – Жратвы-то на меня не приготовлено.
– Не попрут, – уверенно ответил Сашка. – Договоримся как-нибудь. И едой поделимся.
Глава 6
Пашка освоился в байдарочном лагере так быстро, как будто не прибился к нему случайно, а всю жизнь здесь провел. Уже к вечеру он командовал приготовлением ужина на костре – мало кто из городских ребят имел представление о том, как это делается, – и покрикивал на дежурного, который чуть не превратил кашу в угли. В соревнованиях он, конечно, не участвовал, потому что не был на них заявлен, но во всех остальных делах участвовал самым активным образом.
Однажды Сашка вспомнил:
– А дома-то не сказал ты, куда идешь. Родители тебя, может, уже с милицией ищут.
– Не ищут, – помолчав, нехотя ответил Пашка. – Отец с женкой пьющие. Навряд и заметили, что меня нету. А мать три года как померла, – предупредил он Сашкин вопрос.
Больше они о Пашкиной внелагерной жизни не говорили. Да они и вообще не были излишне разговорчивы, Пашка в силу деревенского воспитания, а Сашка просто по наследственному, от отца, характеру.
– Обжился ты у нас, Сань, – заметил как-то Пашка. – Глянешь на тебя – и вроде не приезжий ты. И не скажешь, что с самой Москвы.
Это было вечером, в день последних соревнований. Неделя подходила к концу, и не верилось, что скоро всего этого не будет. Этих маленьких корявых деревьев, всей этой неяркой, но почему-то за душу берущей природы…
– У меня отец отсюда родом, – ответил Сашка. – С Белого моря. Деревня Колежма. А в Мурманск он на рыбный промысел ходил. Даже младше меня тогда был.
– То-то гляжу, лицо у тебя такое! – воскликнул Пашка. – Поморское лицо, и смотришь так…
– Как? – заинтересовался Сашка.
– Ну, по-ихнему так, по-поморски. Вот я, например, саам, мы совсем не так смотрим. Ну, народ такой местный, саамы. Лопарями нас еще зовут. А в сказках, я читал, лапландцами. Слышал, может?
Про лапландцев Сашка тоже читал – в «Снежной королеве». Он вспомнил, как Герде помогали добраться до Кая через северные края лапландка и финка. Оказывается, лапландцы действительно существуют, не Андерсен их выдумал.
– Никто нас не выдумал, – в ответ на его вопрос объяснил Пашка. – Тут у нас на Кольском разные есть. И поморы тоже. То-то я сразу заметил, что ты на помора похож. Высоченный какой, и вид у тебя суровый. – И тут же он подмигнул: – На Наташку только иначе глядишь. Глаза так искры и мечут.
Наблюдательность его не подвела. Наташа Горяинова в самом деле вызывала в Сашкиной душе целую бурю чувств, и искры, которые заметил Пашка, были лишь слабым отсветом этой бури.
Наташа приехала на соревнования из Иркутска. Она была настоящая сибирячка – крепкая, ловкая, высокая, с румяным, словно от постоянного мороза, скуластым лицом. Но, вопреки всякой очевидности, Сашка ловил себя на том, что Наташа кажется ему маленькой и хрупкой. И дело было даже не в том, что он был все-таки выше ее ростом.
Дело было в какой-то очень глубокой, неназываемой сути, которая у Наташи была совсем другая, чем у него. И эта суть, эта ее хрупкая, вопреки внешности, природа притягивала его к себе невероятно.
– Раз такое дело, что отец помор у тебя, – сказал Пашка, – так тебе, наверно, интересно будет…
– Что? – не понял Сашка.
– Покажу тебе кой-что, – с загадочным видом пообещал Пашка. – Затемно завтра встанешь?
– Ну, встану, – пожал плечами Сашка.
– Наталью с собой бери, – великодушно разрешил Пашка. – Ей тоже понравится.
Они вышли из лагеря даже не утром, а ночью. Звезды еще не начали таять, и небо было не по-утреннему глубоким. Весенняя свежесть обновляющегося мира, которая и днем чувствовалась здесь, у реки, очень ясно, теперь была главной в природе.
Наташа шла неохотно – то и дело зевала, не успевала за Сашкиными широкими шагами, и вид у нее был такой, словно она делает ему огромное одолжение, соглашаясь тащиться куда-то в несусветную рань. Может, она и в самом деле так думала, но Сашке все же казалось, что она притворяется, а на самом деле очень даже рада, что он предложил ей пойти с ним вместе. И ему было легко идти оттого, что она идет рядом.
Пашка вел их с уверенностью, обещавшей какую-то очень необычную цель. Но о самой этой цели молчал, как партизан. Впрочем, Сашка особо и не расспрашивал. Ему нравилось идти в предутреннем молчании, вдыхать, раздувая ноздри, запахи земли и воды, слышать дыхание идущей рядом девчонки… Видно, почувствовав его душевный подъем, Наташка перестала отставать и шла теперь рядом с ним упругой, как у красивой лесной кошки, походкой.
– Тихо! – вдруг предупредил Пашка, хотя и так все шли в молчании. – Ну, вот она. Сань, гляди.
Сашка не сразу понял, на что он должен смотреть, выйдя из-за речной излучины. Разве что на солнце, которое ярким утренним шаром медленно взлетало над низкорослыми кустами. Оно и правда притягивало к себе взгляд, оно словно бы разбрасывало по земле россыпь сияющей росы, и при виде обновляемого им мира хотелось набрать полную грудь особенного утреннего воздуха.
Но Пашка указывал не на солнце. Проследив за его взглядом, Сашка едва сдержал изумленный возглас.
Ему показалось, что река перед ним кипит. Не бурлит даже, а вот именно кипит – таким мощным, таким необычным было движение, из которого вся она состояла. Присмотревшись, он увидел, что на самом деле она состоит из блестящих рыбьих спин.
– Ой, какие… – восхищенно прошептала Наташа. – Это кто?
– Семга на нерест идет, – сказал Пашка. – Царь-рыба!
Точнее и правильнее назвать эту рыбу было невозможно. Она была царственна каждым движением своего мощного тела, она была так гармонична, что непонятно было: как же река существовала без нее?
Сашка почувствовал, что восторг, который и так уже переполнял его из-за сияющего рассвета, становится таким сильным, что вот-вот хлынет у него горлом. Он оглянулся почти растерянно. Наташины чуть раскосые глаза радостно сверкнули навстречу его взгляду.
– Наташа… – с трудом проговорил он, с удивлением слыша, каким хриплым вдруг стал его голос. – Наташа, я…
– Пойду острогу налажу, – как-то очень быстро пробормотал Пашка. – Рыбы набьем – во!
Пашка скрылся в прибрежных кустах. Наташа смотрела на Сашку сверкающими, как рассвет, глазами.
Он взял ее за руку, чуть потянул к себе. Она подалась легко, словно только этого и ждала. Ее плечи, когда Сашка обнял их, показались ему такими нежными и беспомощными, каких просто не бывает на свете. Они не могли быть такими – она ведь и на байдарке ходила, и плавала не хуже других девчонок, да и парней тоже. Но сейчас, в этом сияющем мире, у бурлящей жизнью реки, она была нежна, как мотылек.
Но не только нежной она была, а невероятно, бешено желанной. Сжимая ее плечи, Сашка почувствовал себя не человеком даже, а огромной рыбой – такой, какие мелькали в реке сильными телами.
Все связанное с девчонками не было для него совсем уж неизвестной стороной жизни. То есть это раньше он думал, что ему уже многое о них известно. Когда обнимался с ними под видом медленных танцев на школьных дискотеках. Когда целовался после этих танцев, от нетерпения не успевая даже отойти подальше от школьного крыльца.
И только теперь он понял, что все это было не то. Только теперь, когда какая-то внешняя сила сжала и голову его, и горло, и грудь, будто стальным обручем. Когда Наташины глаза – она почему-то не закрывала их ни во время поцелуя, ни потом, – прожгли его, как раскаленные гвозди. Когда все у него внутри загорелось таким огнем, что он и сам боялся прожечь ее собою.
Он сгорал от этого огня, но руки его при этом жили отдельной, какой-то очень точной жизнью. И губы ею жили, и колени, которыми он раздвигал Наташины ноги, когда они упали вдвоем за прибрежный куст, на молодую весеннюю траву.
Наташа не то чтобы сопротивлялась – она просто не знала, что ей делать. Сашка почувствовал это и сам расстегнул «молнию» ее куртки, и пуговицы ее рубашки, и потянул вверх ее лифчик, и раздел ее всю… Он никогда ничего подобного не делал и успел мгновенно подумать, что со стороны это показалось бы ему грубым. Но когда все его действия определялись не чем-то сторонним, а тем, что мощным потоком шло у него изнутри, они не были грубыми, это он знал точно. И не знал даже, а чувствовал всем собою.
И Наташа, наверное, почувствовала это тоже. Она обняла Сашку за шею и подалась вверх, к нему, словно магнитом притянулась. И через минуту вскрикнула, закусила губу – наверное, от боли. Но Сашку, хотя он меньше всего хотел бы причинить ей боль, было уже не остановить ни вскриком, ни… Ничем его было не остановить!
Оба они были неопытны, у обоих все это происходило впервые. Но то, что в них обоих было, что бросило их друг к другу, то, чего они оба не сознавали, – это было сильнее опыта.
Это была их молодость, та великая сила, которая может позволить себя не сознавать.
Сашка понимал – если можно было назвать пониманием то, что происходило с ним в эти минуты, – что ничего подобного он в жизни не испытывал. Это было даже не чувство – то, что с ним сейчас происходило, – это было ни с чем не сравнимое соединение всех его сил в одну могучую силу. Весь он превратился в звенящий, пульсирующий сгусток энергии, и эта энергия была равно прекрасна и для него, и для девушки, которую она к себе притянула.
Хотя что чувствовала Наташа, он на самом деле не знал. Да если бы и знал, все равно едва ли делал бы все иначе, чем делал теперь, в этом своем незнании. Сила, которая определяла все его действия, не подчинялась таким вещам, как знание или разум.
А когда этот сгусток энергии взорвался в нем, как ядро, причиняя своими осколками боль, он почувствовал такое счастье, что готов был терпеть эту боль хоть всю жизнь.
Но взрыв не мог длиться всю жизнь. Он кончился, как – Сашка впервые это понял – кончается в жизни все.
Дрожа от мгновенно охватившей его слабости, переполненный восторгом и покоем, Сашка упал на спину и притянул к себе Наташу. Он только теперь разглядел ее – все время, пока длилось их соединенье, она находилась где-то в слепом пятне его сознания.
Вид у нее был испуганный и счастливый, и непонятно было, чего в ней сейчас больше, счастья или испуга. Сашка же чувствовал, как постепенно возвращается в свои берега. И в них, в этих берегах, его переполняли восторг и нежность к этой девочке, которая так неожиданно и так прекрасно слилась в его сознании с сияющим весенним утром, и с бурлящей жизнью рекою, и с победным серебром мощных рыбьих тел…
– Наташка… – с трудом шевеля губами, выговорил он. – Наташенька…
Она молчала. Может, от растерянности, а может, ждала от него чего-то. Чего она ждет, Сашка не знал. Ему казалось, с ним уже произошло самое прекрасное, что может произойти с человеком.
Он поцеловал Наташу и счастливо засмеялся. И тут же спохватился: вдруг Пашка услышит?
Впрочем, Пашки ни видно не было, ни слышно.
– Пойдем, а? – сказал Сашка, поднимаясь с земли. – Пойдем рыбу посмотрим.
Наташа встала тоже, отряхнула кофточку.
– А ты меня что, совсем не любишь? – вдруг спросила она. – Ты со мной просто так, да?
В голосе ее зазвенели слезы. Сашка растерялся.
– Как это я тебя не люблю? – удивленно проговорил он. – Почему?
Ему казалось, все, что только что между ними произошло, было сплошной любовью. И почему же она вдруг?..
– Но ты же молчишь, – с неутихающими слезами ответила Наташа. – Ничего мне не говоришь. Значит, не любишь.
«Они какие-то совсем другие, – подумал Сашка. – Все по-другому понимают».
Но эта мысль не испугала его и даже не очень удивила. Он принял ее так же просто, как жизнь.
– Я тебя люблю, – твердо сказал он и, наклонившись, снова поцеловал Наташу в обиженно сжатые губы. Губы сразу же приоткрылись под его поцелуем, стали мягкими и доверчивыми. – Я тебя, Наташ, очень сильно люблю. Пойдем рыбу смотреть!
Она улыбнулась, засмеялась и чуть не вприпрыжку побежала рядом с ним к реке.
Пашка был уже там. Он бродил по отмели и бил самодельной острогой прямо в воду. В ту минуту, когда Сашка с Наташей его увидели, он как раз попал в рыбу.
– Видали?! – Пашка обеими руками поднял острогу, на которой билась огромная семга. – Во какая! Их тут таких до фига и больше!
Все-таки Пашка отличался каким-то особенным тактом. Любой деревенский пацан на его месте отпустил бы какую-нибудь сальную шуточку, или похлопал Сашку по плечу, или хоть подмигнул бы и понимающе хмыкнул. Вообще-то Пашка относился к девчонкам без лишних антимоний, попросту. Но друга, идущего с девушкой к реке из кустов, он встретил так, словно тот ходил за ветками для костра, что ли.
Уже через минуту Сашка тоже бродил по отмели с острогой, которую ему великодушно отдал Пашка. Рыбы было так много, что если она и боялась ловцов, то ей просто некуда было от них деваться. Она била по коленям твердыми головами, плескала хвостами прямо у ног, разрезала воду вокруг темно-серебряными спинами.
Сашка бил в воду острогой, вытаскивал и выбрасывал на берег крупные рыбьи тела и чувствовал огромное, до горла заполняющее счастье. Оно было едино в нем, это счастье, и вместе с тем Сашка сознавал, из чего оно состоит. Из россыпи солнечной росы на траве, из взгляда Наташи, из ее объятий, которые до сих пор звенели в его теле, из ее мокрых прикосновений – она ходила по отмели рядом с ним, и он время от времени отдавал ей острогу, и руки их при этом смыкались, и смех охватывал обоих…
Все это было одно: девушка, река, царь-рыба, солнце, молодость!
– Доброе утро, Сань. – Пашка стоял в дверях кабинета. – Ну что, докладываю…
– Да ладно, Паш, – улыбаясь, наверное, какой-то блаженной улыбкой, сказал Александр. – На совещании доложишь.
– Ты ж сам хотел, чтобы я заранее доложился, – удивился Пашка. – Чтобы решить, идем мы на Дальний Восток или нет. В смысле, осилим ли.
– Идем, – сказал Александр. – Все мы осилим.
Пашка присмотрелся к лицу своего друга и начальника и, весело покрутив головой, сказал:
– Лихой ты мужик, Александр Игнатьич.
– Выпьем, Паш, – сказал Александр.
– С утра? – снова удивился Пашка. – Не похоже на тебя.
– По рюмке. За успех.
– Я и говорю, лихой, – усмехнулся Пашка. – Все говорят, рисковый, а на самом деле нет. Рисковые за успех не пьют. Боятся.
В кабинете, кроме основной, была еще одна, сливающаяся со стеновыми панелями дверь. Она вела в помещение, которое в кабинетах всех больших начальников называлось комнатой отдыха. Когда Александр покупал офис у разорившейся государственной конторы с непроизносимым названием, эта комната здесь уже была.
Он открыл бар, достал бутылку коньяку, подцепил два бокала-тюльпанчика. И, держа все это на отлете, набрал телефонный номер. Когда ему ответили, он почувствовал, как его заливает волна восторга. Такая же – ну, почти такая же, – как в тот весенний день, о котором он только что вспоминал.
– Аннушка, – сказал Александр, – соскучился я. Когда мы увидимся?







