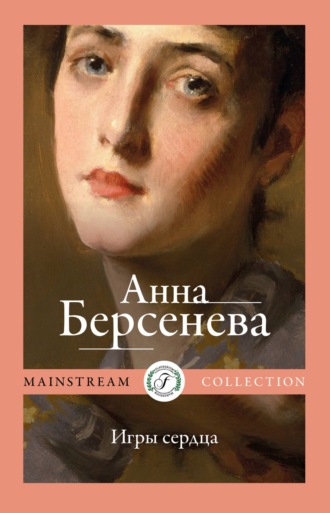
Анна Берсенева
Игры сердца
Иван положил девушку на постель. Она не проснулась, только перевернулась на бок и поджала ноги. На ее колготках от пяток шли две недлинные стрелки. Они были зашиты тонкими нитками. А ему-то казалось, что женщины давно уже не зашивают колготки.
«Может, раздеть ее?» – подумал он.
Но все-таки не стал этого делать. Как ни подсмеивайся над девичьей честью, а раздевать спящую пьяную девчонку – это как-то… непорядочно.
Только вот не похоже было, что она проснется в ближайшие несколько часов. Значит, надо было и самому устраиваться на ночь.
Спать в одежде он-то уж точно не собирался. К счастью, мамина кровать при всем своем неудобстве была широкая, то есть площадь ее круга была большая. Иван сдвинул девушку ближе к краю – она и на этот раз не шелохнулась, – снял джинсы, рубашку и лег на другой край этого плетеного гнезда.
Он уснул мгновенно, едва успев подумать, что все-таки утомил его этот бестолковый вечер, надо же, а он ведь и не замечал…
Глава 4
Свет лежал перед ним, как длинный поваленный столб. А вдоль светового столба колыхалась, волновалась тьма, и тьма эта состояла из воды, вся была водою. В ее могучем объеме было что-то зловещее, но была в нем и загадка, тайна, и вот эта-то тайна манила, притягивала, втягивала в себя. Хотелось рвануться вперед, в темноту, вырваться из освещенного пространства, и так сильно этого хотелось, что страх исчезал.
Он уже совсем собрался с силами для того, чтобы это сделать – уйти в темную водяную толщу, – но тут свет стал ясным, распространился во все стороны, охватил все пространство вокруг…
Иван открыл глаза. Все вокруг было наполнено светом – рассеянным, белесым, туманным. Он не сразу вспомнил странное ощущение, которое создавал такой вот свет, потому что редко это ощущение испытывал, редко и давно, в детстве, когда жил у мамы во время каникул. Только здесь, в мастерской, свет падал из окон таким вот образом.
Собственно, здесь были даже не окна, а сплошная узкая, но длинная, по всему периметру комнаты, застекленная щель под потолком. Она была огорожена чем-то вроде бруствера, поэтому мама говорила, что здесь, под крышей дома, предполагали, видимо, устроить тюремную камеру, да в последний момент передумали.
Как бы там ни было, а утренний свет в мастерской был в самом деле необычный.
Он всегда был такой, ничего в этом не было удивительного. Но сегодня… Когда, окончательно проснувшись, Иван повернул голову и наткнулся взглядом на спящую девчонку, ему показалось, что источником этого рассеянного света является она. Мысль была такая же глупая, как вчерашний поцелуй, произведенный им для того, чтобы определить, живая она или нет.
Понять, отчего могла возникнуть такая глупая мысль, он не успел: его ночная соседка открыла глаза. Сонный туман застилал их несколько секунд, не больше. Потом она сказала:
– Кажется, я спала слишком долго.
Ивану стало смешно от серьезности, с которой она оценивала свои ощущения. К тому же он сразу вспомнил, что подобная ситуация описана в сказке Пушкина, где царевна, привздохнув, произнесла: «Как же долго я спала!» Просто точь-в-точь.
– Да нет, не слишком долго, – сказал он.
– Почему же вы улыбаетесь? – все с той же серьезностью спросила она.
– Разве я улыбаюсь? – удивился Иван.
– Да. Вам снилось что-то хорошее?
Глядя на нее, он не сразу вспомнил, что ему снилось. А, ну да!.. Вспомнил.
– Да, – кивнул он. – Хорошее.
– Наверное, что-нибудь таинственное, – сказала она. – Это счастье.
Она произнесла это мимолетным тоном – наверное, думала при этом не о каких-то посторонних сновидениях, а о себе. Но угадала же! Ему действительно снилась тайна, и это действительно было счастьем.
Иван протянул руку, взял с пола свои джинсы, надел их под одеялом и встал.
– Одевайся, – сказал он. – Ванная в конце коридора. Я туда на пять минут, потом пойду в кухню, тогда можешь идти умываться.
«Дома душ приму», – решил Иван.
Ему хотелось уйти отсюда как можно скорее.
Зубы пришлось чистить пальцем, вдобавок он забыл взять из шкафа полотенце, поэтому вышел из ванной с мокрым лицом. Хотел было вернуться в комнату, чтобы выдать полотенце девчонке, но подумал, что она там, может, одевается, то есть не одевается, она же не раздевалась на ночь, ну, переодевается, да мало ли что она там делает!..
Обилие бытовых подробностей раздосадовало его.
«Что я здесь вообще делаю? – сердито подумал Иван. – Нанялся, что ли, убогих опекать?»
Пока он жарил яичницу и варил кофе, из ванной доносился шум воды. Ему показалось, что это даже не шум, а рассеянный шелест.
«Пообщаешься тут с ними, сам идиотом станешь!» – злясь все больше, подумал он.
К тому времени, когда девчонка вышла из ванной, настроение у него стало совершенно отвратительное.
Иван ожидал, что она заглянет в кухню, но услышал только ее удаляющиеся по коридору шаги – она возвращалась в комнату.
«Придется, значит, в постель ей кофе подавать», – раздраженно подумал он.
Девчонка встретила его, правда, не в постели, а сидя на ковре. Но чашку с поставленного перед нею подноса она взяла с тем самым заоблачным видом, который Иван с детства наблюдал у всех посетителей маминой мастерской и с детства же терпеть не мог.
«Я думаю о высоком, – говорил весь этот вид. – Поэтому мне не до мелочей. А постелить постель, подать еду, сварить кофе – все это может сделать любой обыкновенный человек вроде тебя».
– Сначала яичницу съешь, потом будешь кофе пить, – буркнул он. – Гастрит хочешь заработать?
– Я не хочу заработать гастрит, – с этой своей дурацкой серьезностью ответила она. – Но яичницу лучше съесть вам, ибо вы мужчина.
Ему стало смешно, и злость сразу прошла. Иван уселся рядом с нею на ковер возле подноса и разложил яичницу по тарелкам.
– На охоту мне не идти и пещеру от врагов не защищать, – сказал он. – Так что можем поделить еду поровну. Как тебя зовут?
– Северина, – ответила она.
– Как?! – поразился Иван. – Это что, псевдоним?
– Нет. Это мое имя.
«Значит, это все уже не в первом поколении», – сдерживая смех, подумал он.
Нетрудно было догадаться, что люди, которые додумались дать своему ребенку такое имя, здравостью ума не отличались.
– А я Иван, – сказал он.
– Ваше имя прекрасно, как в сказке, – ответила она.
– Да? – усмехнулся он. – Это в какой же сказке? Про Ивана-дурака?
– Про Ивана-царевича.
Он еле сдерживал смех, а она говорила совершенно серьезно и смотрела прямо ему в глаза своими прозрачными глазами.
«Как водка, – вдруг подумал Иван. – Глаза у нее – как водка».
Эта мысль совсем уж его развеселила.
– Давай-ка ешь, Северина, – сказал он. – Или с похмелья аппетита нет?
– Я очень хочу есть. Хотя вчера я действительно выпила водку, а это мне непривычно и даже трудно.
– Зачем же пила, раз трудно?
– Леонид просил с ним выпить, и мне было неудобно ему отказать.
– Мало ли о чем бы этот Леонид тебя попросил! На все соглашаться, что ли?
Тут ему стало неловко – показалось, что он высказался чересчур грубо. Тем более что эта Северина, похоже, понимает все слишком буквально.
Она ничего не ответила, только вздохнула и принялась за яичницу. Видно, она в самом деле была голодна, потому что съела ее мгновенно. Иван пожалел, что разложил яичницу по тарелкам: перекладывать ей теперь свою порцию было как-то неудобно. Впрочем, чего тут неудобного?
Он стряхнул яичницу со своей тарелки на Северинину. Она подняла глаза, посмотрела вопросительно.
– У меня-то как раз похмелье, – соврал Иван. – Думал, за компанию поем, но нет, кусок в горло не лезет. Ешь сама.
Она проглотила вторую порцию так же быстро и все-таки вряд ли наелась.
«А в холодильнике у мамы шаром покати», – подумал он.
Кофе Северина тоже выпила одним глотком. Так едят и пьют не богемные девушки, а просто очень голодные. Он вспомнил зашитые стрелки на колготках, и острая жалость пронзила ему сердце. Буквально так – эти слова, несмотря на свою затасканность, очень точно называли то, что он почувствовал.
– Спасибо, – сказала Северина.
– На здоровье. Жаль, больше ничего нет, – сказал Иван.
Он хотел предложить ей зайти в какое-нибудь кафе и дозавтракать там. Но, пока он открывал рот, чтобы это сказать, Северина легко и гибко качнулась вперед, положила руки ему на плечи и поцеловала его.
Это было так неожиданно, что Иван едва не оттолкнул ее. Еще не хватало ему благодарных поцелуев! Но в то мгновенье, когда он почувствовал ее губы на своих губах, голова у него закружилась и глаза застлал туман. Она поцеловала его так нежно и вместе с тем так страстно, что все мысли выветрились у него из головы и все чувства ушли из тела. Все, кроме одного – сильного, всепоглощающего. Может, это и не чувство даже было, а одно только желание; Ивану некогда было сейчас это анализировать. Он притянул Северину к себе и лег на ковер.
Теперь она лежала на нем, вытянувшись как ветка. Да, точно так это было бы, если бы он лег в лесу на траву, а с дерева на него упала бы ветка. Хотя падают ведь сухие, старые ветки, а она, эта невесомая девушка, никак не связывалась со старостью. Слишком много в ней было юного трепета.
Она лежала на нем тихо, словно прислушивалась к нему. Он обнял ее и стал целовать. Каждый поцелуй распалял его все больше. Удивление, даже оторопь, которые охватили его вначале, теперь прошли; он весь дрожал от нетерпения.
Молния на джинсах расстегнулась быстро, а с Севериниными колготками пришлось повозиться. Стягивая их с нее, он чувствовал, как они рвутся под его руками. Но думать о ее колготках Иван сейчас, конечно, не мог. Он вообще ни о чем не мог думать. Мог только чувствовать это тоненькое тело в своих объятьях – сначала на себе, потом под собой, – мог целовать эти почти неощутимые губы, гладить ладонями ноги, которыми она обнимала его спину, лбом упираться в маленькое плечо, как будто оно могло быть опорой для всего его бьющегося, наизнанку выворачивающегося тела…
Глава 5
«Надо же было, чтобы именно она мне подвернулась. Мне же почти все равно было, с кем, а тут она… Черт, до чего ж глупо вышло!»
Это он думал уже лежа рядом с нею на ковре. Они не прикасались друг к другу.
Иван скосил глаза. Северинино лицо было совсем рядом, он видел каждую его черточку. Несмотря на такую вот чрезмерную близость, оно оставалось таким же тонким, каким виделось издалека. Глаза ее были закрыты, и тени от длинных ресниц сливались с усталыми полукружьями под глазами. От чего она так устала? Целую ночь ведь как убитая спала… Вблизи казалось, что ее кожа совсем не имеет пор. Как матовое стекло. Да, вот точно: эта девушка была сделана словно бы из венецианского стекла, а не из плоти и крови. Хотя еще минуту назад ему так не казалось. Совсем не казалось!
Думать так сложно о женщине, которая без размышлений расплатилась за ночлег и завтрак сексом, было странно, неуместно. Чтобы прогнать эти неуместные мысли, Иван подумал о более насущном – о том, что у него не оказалось с собой презервативов. А они пришлись бы очень кстати! С кем она была еще вчера, какому художнику не смогла отказать, неизвестно.
Простые мысли и насущные заботы всегда помогали ему избавиться от мыслей неясных и тревожных. Но на этот раз не помогали и они.
Что-то надо было делать с этой Севериной, прежде чем выпроводить ее отсюда и забыть о ней навсегда. Хоть поцеловать, что ли. Все-таки она женщина, пусть и вполне определенного разряда.
Едва лишь Иван подумал, что надо бы ее поцеловать, как с удивлением понял, что ему очень этого хочется. Страшно хочется! Даже скулы сводит от этого желания.
Он привстал, опираясь на локоть, и наклонился к Северининым губам. Наверное, она почувствовала это – сразу открыла глаза и обняла его за шею тем же страстным и нежным движением, которое так поразило его в первый раз.
– Слушай, ты не думай… – пробормотал он. – Думаешь, ты мне что-то должна?
Горло у него перехватывало так, что, наверное, она и расслышать не могла, что он там говорит.
Но она все прекрасно расслышала.
– Я так не думаю, – сказала Северина с теми же ясными интонациями, с которыми недавно говорила про яичницу. – Я полюбила вас с первого взгляда.
«Блаженная она, что ли? Или дура? Или притворяется?» – успел еще подумать он.
Но на том все его мысли и закончились.
На этот раз его страсть была какой-то… продленной, да, именно так, она не полыхала, а длилась, но от этого не делалась слабее. Он не только обнимал и целовал Северину, но, задыхаясь от желания, от возможности мгновенно утолить это желание, успевал разглядеть ее всю – послушную ему, отдающуюся ему, улавливающую каждую его потребность в ту же секунду, когда эта потребность лишь смутно возникала в нем, – и при этом странным образом от него отдельную.
Она и в самом деле была такая, словно вот-вот должна была разбиться, как непрочное венецианское стекло. Но при таком ее странном свойстве какую же бешеную страсть она в нем вызывала!
Она не казалась опытной – в ее движениях не было отлаженности, машинальности. Но и угловатости, неловкости в них не было тоже. А что в них было, что было в ней во всей? Что в ней было такое, что будоражило, пробивало от макушки до пяток физически, как удар тока?
Ну да, правда, не приходилось очень уж удивляться Северининой для него притягательности. У нее было то, что он всегда ценил в женщинах, – например, хорошая, несмотря на некоторую худобу, фигура. Ноги были длинные, и обнимала она ими так, словно всю жизнь занималась акробатикой или чем-то вроде того. И шея тоже была длинная – это, положим, не так существенно для секса, как красивые ноги или общая гибкость, но тоже почему-то возбуждало Ивана неимоверно.
Да, тем и хорош был второй раз по сравнению с первым, что туман уже не застилал ему глаза и он с невыразимым удовольствием все это разглядывал.
Потом, когда они снова лежали рядом на ковре и снова не прикасаясь друг к другу, он разглядывал ее, уже не отрываясь, не отвлекаясь ни на что. Глаза у Северины и на этот раз были закрыты, и он мог делать это не таясь.
Если бы Иван только что не вколачивал ее всем телом в пол, сам колотясь от своего физического безумия, если бы не впивался в нее губами так, что чуть зубы себе не выдавливал, то он мог бы подумать, что на ковре рядом с ним лежит не живая девушка, а скульптура, оставленная кем-то в мастерской. Но скульптура уж точно не могла бы привести его в такое возбуждение, которое и сейчас еще отдавалось отголосками во всем его теле. И красные, быстро синеющие следы от его губ, которые бесстыдно горели на Северининой шее, уж точно не остались бы на скульптуре.
«Ну, дурак! – Иван даже головой потряс, словно хотел вытрясти из нее дурацкие мысли. – Лучше подумай, что с ней теперь делать. Какие у нее планы, что у нее вообще в голове, можешь ты понять?»
Что в голове у такой девушки, как Северина, понять было совершенно невозможно. Ясно было только, что планы в этой голове могут возникнуть самые неожиданные и для нормального человека непостижимые. И, значит, надо что-то делать как можно скорее, пока еще можно что-то сделать.
Но, понимая это, Иван не мог заставить себя не только сделать что-то разумное, но даже просто пошевелиться. Да что там пошевелиться! Он не мог себя заставить отвести взгляд от прозрачного Северининого лица, от всей этой воплощенной бестелесности, которая каким-то невероятным образом только что возбудила его больше, чем могло бы это сделать самое цветущее тело.
Неизвестно, сколько он оставался бы в таком завороженном состоянии, но Северина вдруг открыла глаза.
«Водка, – снова подумал он, в очередной раз удивившись их прозрачности. – То-то будет похмелье!»
– Мне пора идти? – спросила она.
Что он должен был на это ответить? Промямлить что-нибудь невнятное – мол, как сама считаешь нужным, на твое усмотрение… Это было бы непорядочно: она говорила ровно то, что хотела сказать, это Иван уже понял, и на прямой вопрос вправе была ожидать прямого ответа.
– Да, – ответил он. – Я тебя провожу.
Он не хотел, чтобы она осталась еще хотя бы на час. Она будила у него в голове тревожные мысли, а в теле необъяснимые и чересчур бурные желания.
Да и просто стыдно ему было перед ней. Набросился на девчонку, как солдат после дембеля, слова человеческого не сказал, да еще вон всю шею изуродовал засосами… Скотина, больше ничего.
Чувствовать себя скотиной было неприятно, хотя не насиловал же он эту Северину… В общем, скорее бы ее спровадить. С глаз долой – из сердца вон.
Но, подумав так, он лишь рассердился на себя еще больше: при чем здесь, в самом-то деле, сердце?
Нет, совершенно ни к чему была вся эта сшибка чувств, которую она в нем вызывала.
Иван поднялся с ковра и стал одеваться. При этом он не отрываясь смотрел, как одевается Северина. Она делала это с таким отрешенным видом, с каким в самом деле разве что эльф надевал бы крылья. Колготки она тоже стала было надевать, но, заметив, что они рваные, скомкала их и положила в карман юбки.
– Колготки тебе порвал, извини, – сказал Иван. – Сейчас вместе выйдем и купим.
Она посмотрела на него каким-то странным взглядом. Ни укора, ни вопроса в этом взгляде не было точно. А что было, Иван не понял.
Глава 6
Когда вышли на улицу, то оказалось, что свет в мастерской был неярким, рассеянным, странным не только из-за формы окон, но и оттого, что небо затянуло белесой дымкой. В воздухе сеялся мелкий дождик.
«И совсем не из-за Северины такой был свет», – подумал Иван.
Наблюдение было явно не из разумных, и вслух он сказал:
– Куда тебя проводить?
– Вы можете меня не провожать, – ответила она. – Мне здесь близко. На вокзал.
От Краснопрудной улицы до площади трех вокзалов в самом деле было совсем близко, минут десять пешком. Иван вздохнул с облегчением. Общество Северины тяготило его.
– А куда тебе ехать? – все-таки поинтересовался он.
– Домой.
Раз она так ответила, то можно было бы уже и не выспрашивать подробности. Но он все же спросил:
– Домой – это куда? Адрес есть у тебя?
– У меня нет адреса, – ответила она. – Ибо я живу в общежитии.
От ее дурацкого «ибо» его перекосило. Если он что и не мог терпеть в женщинах, то вот эту вот манерность, это желание казаться не тем, что ты есть, это… Впрочем, Северина, кажется, не манерничала. Она шла рядом с ним молча, на его вопросы отвечала односложно и не бросала на него томные взоры, а смотрела вниз, на свои туфли.
Иван тоже перевел взгляд на ее туфли. Правая немного разошлась на носке по шву, и в небольшой дырке виднелся кончик голого пальца.
Они как раз проходили вдоль вереницы киосков, торговавших всякой всячиной. Иван опустил было руку в карман куртки, чтобы достать кошелек. Но замешкался: он не знал, как дать Северине деньги. Ну что она о нем подумает? Или, может, сказать, что это только на колготки?
«Еще мелочь ей отсчитай, – сердито подумал он. – Чтоб без сдачи!»
– Иди, я сейчас догоню, – пробормотал он.
Не глядя на него и не останавливаясь, Северина пошла дальше, а он подошел к киоску.
– Колготок дайте штук пять, – быстро сказал Иван.
Продавщица, читавшая истрепанную книжку, подняла глаза и взглянула на него с интересом.
– Вам на кого, молодой человек? – игривым тоном спросила она.
– На довольно худую девушку, – нетерпеливо пояснил Иван.
– А в какую цену?
– Хорошие давайте, – сердито проговорил он. – Которые не рвутся.
– Колготки все рвутся, – произнесла продавщица таким тоном, словно речь шла не о качестве колготок, а о бренности бытия. И, бросив на него очередной игривый взгляд, предложила: – Может, чулочков возьмете? Они эротичнее.
– Побыстрее, пожалуйста, – поторопил Иван.
Она вздохнула, порылась в картонной коробке и положила перед ним стопку пакетиков с колготками. Он расплатился и догнал Северину. От всего, что он делал, у него было такое ощущение, будто он наелся дерьма.
– А сумка твоя где? – спросил Иван. Он только сейчас заметил отсутствие у Северины сумки, потому что самым глупым образом надеялся как-нибудь незаметно положить в нее колготки, которые просто-таки прожигали ему карман куртки. – В мастерской забыла?
– Не в мастерской. – Она наконец взглянула на него. Глаза были такие же, как воздух, просеянный дождевой пылью. – У меня ее не было изначально.
– Ибо ты презираешь все бренное? – усмехнулся он.
– Не по этой причине.
– А по какой?
– Причина лишь в том, что я уехала в Москву неожиданно для себя.
– Ясно, – вздохнул Иван. – Давай-ка зайдем в кафе.
– Зачем?
– Пойдешь в туалет и наденешь колготки. Вон ноги все мокрые уже.
Юбка у нее была длинная, какая-то чуть ли не монашеская, но ноги все равно виднелись в просвете между подолом и рваными туфлями. И они действительно были мокрые – блестели так влажно и соблазнительно, что Иван судорожно сглотнул и пожалел, что не остался с Севериной в мастерской еще на часок.
«Что за девка? – подумал он. – В эротомана тут с ней превратишься!»
В кафе они были одни. Стоял полумрак. Музыка не громыхала, а звучала негромко, с пошлой интимностью. Или просто ему везде сейчас мерещился интим?
– Иди надевай, – сказал Иван, протягивая Северине пакетики с колготками. – Я тебя подожду.
Северина ушла, а он сел за столик. К нему сразу же подошел официант и положил перед ним меню.
– Давайте два салата, – не глядя в меню, сказал Иван. – Посытнее, с майонезом. И два горячих, тоже посытнее, мясное что-нибудь. И десерт.
– Что-нибудь с масляным кремом? – поинтересовался официант.
В его голосе прозвучала насмешка.
– Да! – рявкнул Иван. – И два кофе со сливками. И побыстрее.
Видимо, его глупое состояние было заметно всем. Сознавать это было противно.
Наверное, официант понял, что клиент не расположен к шуткам. Когда Северина вернулась из туалета, салаты уже стояли на столе.
– Мы будем есть? – спросила она.
– Будем, – мрачно кивнул Иван.
– Но ведь у вас не было аппетита.
– Не было, а теперь появился. Зверский аппетит. Садись.
Странно было, что она называет его на «вы». Она была первая женщина, которая, переспав с ним, не перешла на «ты». Это беспокоило и раздражало. А то, что он помнил, как она сказала: «Я полюбила вас с первого взгляда», – беспокоило еще больше.
– Ешь, – сказал Иван.
И сразу же понял, что это прозвучало грубо, как команда. А какое право он имел отдавать ей команды?
– Я правда проголодался, – объяснил он, виновато улыбнувшись. – А вдвоем же веселее есть, да?
Она не ответила – похоже, потому что не знала, веселее есть вдвоем или нет. А может, еда вообще не казалась ей веселым занятием.
Как бы там ни было, Северина села за стол. Салат она съела так же быстро, как раньше яичницу.
– Спасибо, – сказала она, положив вилку на пустую тарелку. – Мы можем идти?
– Можем, – кивнул Иван. – Но не пойдем.
– Почему?
– Потому что я не наелся. Сейчас горячее принесут.
– Вы обманываете меня. Но ваш обман нисколько не обижает. Как странно!.. – задумчиво сказала Северина. – Раньше я не понимала, почему возвышающий обман дороже тьмы низких истин. Я думала, здесь какая-то неточность или слабость. Но оказывается, все именно так.
– Ты художница? – спросил Иван.
– Нет. Я поэт.
– А!.. Вон оно что.
Это хоть немного объясняло ее поведение: значит, она все время придумывает стихи, то есть уверила себя в том, что должна их придумывать, оттого и рассеянность.
– Поэтому я все время думаю, – словно подслушав его мысли, сказала Северина. Ему уже не казалось удивительным, что она слышит его мысли. – Вернее, не столько думаю, сколько слушаю.
– Что слушаешь? Голос Бога? – усмехнулся Иван.
Самомнение художников было ему хорошо известно. Вряд ли поэты в этом смысле от них отличались.
– Не знаю. Я слушаю свой голос, а отчего он у меня такой, не знаю. Если бы кто-нибудь другой позволил мне слушать себя так же, как я сама позволяю себе слушать себя саму, то я слушала бы этого другого бесконечно и внимательно.
Эти странные, совершенно не по-человечески произнесенные слова чем-то его задели. Или затронули – так, наверное. Они взбудоражили его разум – может быть, неточностью своей, но взбудоражили безусловно. Ему стало интересно.
– А почитай свои стихи, – сказал Иван.
– Я почитаю, – кивнула она.
Она читала тихо и монотонно, и он ничего не понимал в ее стихах. Они были про божью бабочку, которая зацепилась за человеческое плечо и умирает, не услышав, что ей скажет человек. Нет, это первые строчки были про ту бабочку, но едва Иван успел уловить их смысл, как уже зазвучали следующие, про голую воду и провода на ладони… Смысл Северининых стихов не давался в руки. Но это не раздражало, не злило, а манило так сильно, что Иван весь превратился в слух.
Да еще и рифма была какая-то необычная. Она возникала не сразу – сначала казалось, что никакой рифмы нет, а есть лишь шорох и шелест, то ровный, то прерывистый. И вдруг, к середине чтения, каким-то незаметным образом оказывалось, что совершенно разные по смыслу слова совпадают друг с другом странным посредством рифмы, и выходит поэтому, что не так уж разнится их смысл.
– Ты хорошо читаешь, – сказал он, когда Северина замолчала.
Он просто не знал, что сказать. Он не понимал, хорошие у нее стихи или плохие. Они были как-то вне этих категорий, а в каких категориях следует их оценивать – это-то и было ему непонятно.
– Вы первый на свете человек, который одобрил мое чтение, – сказала она.
– Да? – удивился он. – А что же обычно тебе говорят?
– Обычно говорят, что я читаю плохо, монотонно. Но дело в том, что я не могу декламировать. Это кажется мне оскорбительным и даже постыдным.
– Почему?
– Мне кажется, это сродни продаже своих стихов. Продажа голосом – вот что это.
– Стихи нельзя продать, не волнуйся, – улыбнулся Иван.
– Я знаю.
Она сказала об этом без тревоги и горечи, даже без сожаления. Иван так ответил бы человеку, который стал бы объяснять ему, что утром бывает рассвет, а вечером закат.
Он вдруг понял, что сам ведь и предстал перед Севериной таким вот человеком, который сообщает очевидные вещи. Все время, сколько он находился рядом с нею, Иван видел себя каким-то непривычным, пронизывающим взглядом. Как будто рассеянный свет, из которого она состояла, действовал на него как рентген.
– Сколько тебе лет, Северина? – спросил Иван.
– Восемнадцать.
– Где ты живешь?
– В Ветлуге.
– Это что такое, Ветлуга?
– Это маленький город.
– Ты учишься?
– Нет.
– Но ты же сказала, что живешь в общежитии.
– Это рабочее общежитие. Строительного управления.
– Ты на стройке, что ли, работаешь? – поразился Иван.
Впрочем, он сразу подумал: «Да нет, на какой еще стройке! В управлении, наверное, и работает. Секретаршей. То-то ловко она с документами, должно быть, разбирается! Посочувствовать можно ее начальнику».
– На стройке, – ответила она.
– И кем же?
– Маляром.
Представить эту девушку работающей вообще было невозможно, работающей на стройке – невозможно вдвойне, а уж живущей в рабочем общежитии…
– В общежитии мне не трудно, – сказала она.
– Что-то не верится.
– Но это правда. Я никогда не жила одна и успела привыкнуть к людям.
Она сказала это так, словно сама была не человеком, а птицей или каким-нибудь фантастическим существом, прилетевшим с другой планеты. Впрочем, после недолгого общения с ней Иван готов был поверить, что так оно и есть.
Он вообще не понял, что означают ее слова, хотел даже переспросить… Но не стал переспрашивать. У нее была своя жизнь, и не было у него никакой причины в ее жизнь погружаться. Да и желания такого не было.
Тут официант очень кстати принес горячее, и необходимость неловких расспросов отпала.
– Разве можно столько съесть? – растерянно проговорила Северина, глядя на огромную тарелку, на которой высилась гора мяса с овощами.
Впервые в ее голосе прозвучали обычные человеческие интонации.
– Можно, можно, – улыбнулся Иван. – Приступай, не бойся.
– Я не боюсь.
Она тоже улыбнулась – впервые за все время, которое он ее знал. Это время вдруг показалось ему очень долгим.
Северина съела мясо уже не так быстро, как все предыдущие блюда; кажется, она наконец наелась. Ее бледные щеки чуть порозовели.
– Мне дышать тяжело, – пролететала она, когда ее тарелка опустела.
– Тебе плохо? – встревожился Иван. – Отравилась, может? Не тошнит?
Этого ему только не хватало! Правда, еда-то вроде нормальная, но это для него с его луженым желудком, а не для существа, которое производит такое впечатление, словно любая пища, кроме амброзии, для него опасна.
– Н-нет… Это очень вкусно. Но только очень много, – с трудом выговорила она.
– Ну вот! – Иван вздохнул с облегчением. – А я думал, ты еще десерт съешь.
– Я не могу…
Ему показалось, что она сейчас заплачет.
– Не можешь, и не надо, – успокоил ее Иван. – Не священный долг. Ну что, пойдем или еще посидим?
– Пожалуйста, пойдемте!
Она воскликнула это, кажется, со всей горячностью, на которую была способна.
– Пойдем, конечно, пойдем, – успокоил он ее. – Подожди меня на улице, ладно?
Кафе было дорогое, и ему почему-то показалось вдруг, что Северина смутится, когда он станет расплачиваться.
Она кивнула и пошла к выходу. Иван подозвал официанта, сказал, что десерт не нужен, расплатился. Что можно уйти поскорее, это было вообще-то хорошо: он вспомнил, что ему надо в институт. Мог бы, между прочим, и раньше вспомнить. Иван удивился: до сих пор не бывало, чтобы женщина заставила его так полно отвлечься от работы. А эта вот пожалуйста. Главное, если бы он отнесся к Северине как-нибудь… самозабвенно, что ли, так ведь нет! Он полностью контролировал себя, он даже видел себя со стороны, а что до неконтролируемой физической тяги, так она вполне объяснялась тем, что он долго был без женщины… В общем, черт знает что и больше ничего!
В туалете он глянул на свое отражение в зеркале. Глаза блестели каким-то странным, темным блеском. Ему показалось, что это блеск смятения. Но разбираться в таких тонкостях было некогда: неудобно, что женщина ждет его на улице, как собачонка.
Дождь кончился, и сразу исчез странный рассеянный свет, которым было освещено все это странное же утро. Небо было затянуто плотными тучами. Это было обычно для конца сентября.
Иван огляделся. Возле кафе никого не было. Сердце у него екнуло.
– Северина! – позвал он.
Мимо шли прохожие – обычные люди. Северины не было. Он добежал до перехода через Краснопрудную, вгляделся в противоположную сторону улицы – ее не было и там.
Может, не было ничего странного и тем более опасного в том, что взрослый человек ушел себе куда-то посреди белого дня, но сердце у Ивана колотилось так, словно он потерял ночью в лесу несмышленого ребенка.
До площади трех вокзалов он не дошел, а добежал. И только вылетев к платформам пригородных поездов Ярославского вокзала – почему-то именно Ярославского, – Иван понял, что смысла в его беге не было никакого. Как ее искать в этой переменчивой и, главное, мгновенно переменчивой толпе? Где ее искать, на каком вокзале?







