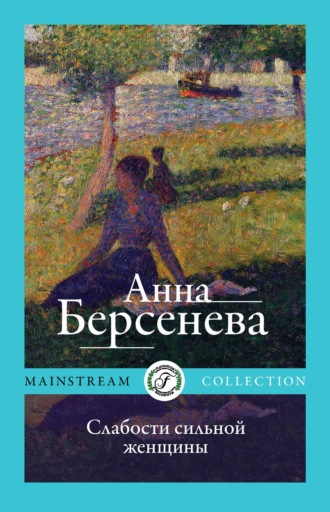
Анна Берсенева
Слабости сильной женщины
И, несмотря на его уверения, что он отлично дойдет до метро сам, Лера все-таки прошла с ним до самой Пушкинской площади.
Потом она вернулась домой и, присев на краешек стула, поставив локти на стол между пирогом и вином, подумала: «Господи, ну зачем же он ушел?» – и чуть не заплакала.
Глава 4
Тогда Лере казалось, что они уже и поженились с Костей. Но на самом деле это произошло почти через два года, как ни странно.
С Надеждой Сергеевной он познакомился через неделю. Принес цветы, торт в круглой коробке и просидел целый вечер, разговаривая с Лериной мамой – немного о своей биологии, немного о Калуге и немного о Москве.
Маму он совершенно очаровал, да Лера в этом и не сомневалась.
– Очень хороший мальчик Костя, – сказала Надежда Сергеевна, когда он ушел. – Такой воспитанный, милый. Он тебе нравится, Лерочка? – осторожно спросила она.
– Я его люблю, – ответила Лера, и мама замолчала.
А в общем-то – что тут можно было сказать? Ведь это очень хорошо, что ее Лерочка полюбила именно этого мальчика – умного, порядочного и доброго. От Кости веяло постоянством, Надежда Сергеевна сразу это почувствовала – и обрадовалась.
Она вообще боялась непостоянства, а особенно когда думала о Лере: дочка была слишком похожа на своего отца – по крайней мере, внешне; от мамы почти ничего не было в ее летящем, как рисунок пером, облике.
Хотя, к счастью, Надежда Сергеевна пока совсем не чувствовала в ней отцовского упорства, его непреклонной воли в странном сочетании с мимолетностью, – а все-таки лучше, чтобы жизнь и дальше не испытывала Лерочку…
Поэтому Надежда Сергеевна обрадовалась, увидев ясноглазого, спокойного Костю и услышав, что его любит ее восемнадцатилетняя дочь.
– Лерушка, – сказал Костя, вскоре после того, как начал бывать в их доме постоянно. – Я хотел спросить тебя…
– Почему же не спросишь? – улыбнулась Лера.
– Да, правда. Я хотел сказать тебе… Ты согласилась бы выйти за меня замуж?
– Конечно! – удивилась Лера: она только сейчас поняла, что они ведь еще и не говорили об этом. – А ты думал, нет?
– Я сомневался. Ты такая… непредсказуемая, необыкновенная. Тебе не скучно со мной?
– Ну что ты, Костенька! – расстроилась Лера. – О чем ты думаешь, вот ерунда какая!..
– Тогда… – Лицо у Кости снова просветлело. – Тогда я только хотел попросить тебя: может быть, мы поженимся не сейчас, то есть не прямо сейчас?
– Да, наверное. – Лера снова едва сдержала улыбку. – Сейчас мы с тобой сидим в буфете и едим сосиски.
– Нет, я вообще… Что ты скажешь, если мы подождем года два?
– Да ничего не скажу, – пожала плечами Лера. – Как хочешь, Котя.
Она говорила вполне искренне. Ей действительно было неважно, когда состоится свадьба, она уже сейчас считала себя Костиной женой, и штамп в паспорте был здесь совсем ни при чем. Она даже не спросила Костю, почему надо ждать именно два года. Он сам объяснил:
– Видишь ли… Может быть, это покажется тебе странным или даже смешным, но мне хотелось бы хоть немного определиться, прежде чем жениться.
– Что ты называешь – определиться? – заинтересовалась Лера. – Ты собираешься через два года закончить университет?
– Нет, но через два года я надеюсь достичь кое-каких результатов и, соответственно, обрести перспективу. Видишь ли, я ведь начал работать с Павлом Сергеевичем Жихаревым из Института высшей нервной деятельности. Он начинает интереснейшие исследования, связанные с улитками…
Услышав про улиток, Лера невольно улыбнулась.
– Да-да, очень серьезные исследования, Лерочка, не смейся! – горячо подтвердил Костя. – И он приглашает меня работать с ним – уже сейчас, а ведь я только на первом курсе! Ты понимаешь, какие это перспективы? Но это – время, силы, это значит, я должен буду полностью отдаться работе и учебе, правда?
– Правда, – согласилась Лера, которой неловко стало из-за того, что ее рассмешили улитки.
Костя такой целеустремленный и талантливый, это ясно, раз ему уже сейчас предлагают серьезную работу.
«Что ж, – вздохнула про себя Лера. – Хоть и непонятно, почему изучать улиток можно только холостяку, но если он так считает…»
– Как хочешь, Котя, – повторила она. – Да и вообще, какая разница, когда мы распишемся?
– Конечно! – согласился Костя. – Но ты правда не обиделась на меня, Лерушка?
– Правда, правда, – заверила Лера. – Улитки так улитки.
Может быть, из-за этих улиток, как ни странно, она и не могла привыкнуть к Косте. Во всем остальном он был словно создан для того чтобы к нему привыкнуть, как к восходу солнца. Но его увлеченность чем-то неизвестным, немного смешным и трогательным – именно такими представлялись Лере улитки – накладывала особый отпечаток на его характер, манеру говорить, смотреть, слушать. К этому невозможно было привыкнуть, в этом он был не такой, как все, – и Лера даже благодарна была склизким существам, которые так увлекали его.
А то, что ей довольно много времени приходилось проводить без Кости, неожиданно оказалось благотворным для нее самой. Не дожидаясь, пока лекции по итальянскому Возрождению начнутся по программе, Лера сама пришла в семинар профессора Ратманова. Тот обрадовался, увидев ее:
– Что, Валерия Викторовна, одолело вас нетерпенье? Уважаю ваш порыв и надеюсь, он не пропадет впустую.
Так Лера начала всерьез заниматься итальянцами, и тема выбралась сама собою: Тинторетто и Венецианское государство. Она и итальянский успела изучить за какой-нибудь год – в добавление к своему французскому, отличному после школы с уклоном, и сносному университетскому английскому.
А поженились они ровно через два года, как и сказал Костя, – в начале третьего курса.
Костины родители, наконец приехавшие из Калуги познакомиться с новой родней, оказались простыми и очень приятными людьми – хотя совсем другими, чем представляла их себе Лера.
Даже удивительно, как у такого яркого, громогласного и шумного человека, как прораб Иван Егорыч Веденеев, мог быть такой тихий и мягкий мальчик, как Костя.
– Эх, сватья! – гремел Иван Егорыч, выпив немного водки за знакомство. – Вот увидел я ваш дом, и рад за Котьку, ей-богу рад! Он же у нас такой парень – мухи не обидит, а его всякий обидеть может. Боялись мы с матерью за него, что и говорить – Москва же, да еще общежитие это, какие там нравы, известно. А тут у вас как у Христа за пазухой, как нам не радоваться!
Костя краснел, пытался остановить отца:
– Перестань, папа, ну при чем здесь общежитие! Что Надежда Сергеевна подумает…
– А чего ей думать? – удивлялся Иван Егорыч. – Ты ж не из-за квартиры, разве непонятно? Ты ж из-за Лерочки, красавицы такой!
И он тут же оборачивался к невестке, которая явно вызывала у него не меньшее восхищение, чем сватья и спокойный, уютный дом.
Но, несмотря на разницу темпераментов, взгляд у Ивана Егорыча был такой же бесхитростный и ясный, как у сына. И мама у Кости была тихая, неговорливая. Сидела, пригубливая водку, то и дело поправляя тщательно уложенные в парикмахерской волосы, и кивала, соглашаясь со всем, что говорили муж, и сватья, и невестка.
Свадьбу праздновали дома: не хотелось общепита, заказного веселья. Да и где же было праздновать Леркину свадьбу, как не в любимом, неповторимом дворе, к которому прикипела ее душа!
– Споешь, Митя? – спросила Лера, сообщая Мите Гладышеву день своей свадьбы. – Споешь на свадьбе у меня?
Она любила, когда Митя пел, да и все у них это любили. Он никогда специально не занимался вокалом, но у него был волшебный голос – за каждым словом, за каждым гитарным аккордом чувствовалось гораздо больше, чем только звучало…
– Спою, – ответил Митя. – Спою на твоей свадьбе, боевая подруга, буду петь, пока не охрипну!
И он пел, и играл на гитаре – сначала у Леры дома, а потом, уже в темноте, на осеннем бульваре посредине Неглинной, сидя на спинке скамейки и то и дело прихлебывая портвейн из стоящей на асфальте бутылки.
Пел все, что просила Лера: про соловья на углу, на Греческой, про пароход белый-беленький, дым над красной трубой, про то, как до полуночи мы украдкою утешалися речью сладкою…
И, конечно, ее любимую – про Кейптаунский порт. Лера и сама не понимала, почему так будоражат ее сердце незамысловатые слова про «Жанетту» с какао на борту и алую морскую кровь. Но когда Митя пел:
И больше не войдут в таверенный уют
Четырнадцать французских моряков…
Лежат убитые, в песок зарытые,
Крестами кортики в груди торчат… —
когда он пел, ей всегда хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Или просто он так умел спеть об этих жестоких страстях?
– А теперь про снежиночку с пальто, а, Мить? – попросила Лера, когда все песни были уже перепеты – хотя, правда, Митя неизвестно откуда знал их такое множество, что и в самом деле мог бы петь до полной хрипоты.
– Про снежиночку – не буду, – неожиданно ответил он.
– Почему? – удивилась Лера – она так любила эту песню!
– Не хочу.
И ничего больше не стал объяснять, но Лера тут же перестала просить. Митя делал только то, что хотел, и никто не мог его заставить – ей ли было этого не знать!..
Они напелись, насмеялись – а многие и напились – до одурения. Лера так устала перед своей первой брачной ночью, что без сил упала на диван.
– Ох, Костя, ну и повеселились! – выдохнула она. – Правда, хорошо было?
– Отлично, – согласился он. – Хорошие у тебя друзья.
– Ну, они старались сегодня. Даже Гоша набрался только к самому финишу, держал себя в руках.
– У Мити голос как у Высоцкого, – вдруг сказал Костя.
– Да ты что! – удивилась Лера. – С чего ты взял? Ничего общего: у Высоцкого хриплый голос, а у Мити баритон, и очень мелодичный. Совсем не похоже!
– Дело не в этом – мелодичный или хриплый, – не согласился Костя, но уточнять, что он имеет в виду, не стал.
А Лера так устала, что ей вообще было не до этого. Кроме того, хоть она и не впервые оставалась с Костей наедине, но так надоело за эти два года вечно куда-то торопиться, вечно от кого-то скрываться неизвестно почему, что она просто радовалась своей первой брачной ночи, и бесконечным ночам, которые будут потом.
Так началась ее семейная жизнь, которая и продолжалась теперь, октябрьским дождливым вечером, когда муж Костя пришел из Ленинки и ужинал на кухне, а жена Лера расспрашивала его про библиотечный буфет – для самоуспокоения.
Лера слушала мужа, улыбалась, чувствовала, как одолевает ее усталость, как сами собою слипаются ресницы, – но сквозь усталость, сквозь Костин голос и подступающий сон пробивался неотвратимый вопрос: как же они будут жить дальше?
Она так и уснула, чувствуя рядом Костино тихое дыхание – и не найдя ответа.
Глава 5
Мамино лекарство – первый звоночек, это Лера поняла сразу. Она кожей чувствовала, что жизнь скоро переменится совершенно; это не могло быть иначе. Интуиции ей всегда было не занимать – и Лера ждала перемен.
Да и как можно было их не предвидеть – после недавних августовских дней, которые так взбудоражили всю страну, и особенно Москву!
Лето этого года они с Костей, как обычно, проводили в Калуге – вернее, под Калугой, где у старших Веденеевых был в деревне домик. Вообще-то Лера любила деревенскую жизнь еще со времен Студенова, но заготовка запасов на зиму надоела ей до чертиков. Она просто не привыкла к тому, что это можно делать в таких масштабах – в Москве-то они с мамой питались из магазина, – и теперь просто изнывала от бесконечного консервирования, засолки и засушки.
Правда, свекровь не настаивала, чтобы этим занималась еще и Лерочка, но ведь самой неудобно сидеть с книжкой или гулять по окрестностям, когда вся семья собирает, варит, закручивает, да еще приговаривает: это деткам в Москву, на зиму!
В общем, Лера вздохнула с облегчением, когда, оставив Костю родителям в качестве заложника, смылась в середине августа в Москву, где очень кстати намечалась конференция по Данте в Библиотеке иностранной литературы.
Она вдруг почувствовала мало кем ценимую прелесть летнего пустого города: его пыли, сухой листвы, плавящегося асфальта и собственного легкого одиночества, – всего того, что пропускалось почти всеми москвичами, сбегавшими на это время за город.
Во дворе было пусто: большинство соседей тоже разъехались по дачам.
И когда девятнадцатого августа Лера выбежала на Неглинную и остановилась на мгновение – чувствуя, что оставаться дома невозможно, и раздумывая, куда же идти, – ей тоже никто не встретился во дворе.
Каждый час, каждая минута этих дней до сих пор, спустя почти три месяца, помнились ей так ясно, как будто все это было вчера. Эти танки на улицах, эти толпы людей, которые нарочно гуляли вечером, чтобы показать свое презрение к тем, кто хотел ими командовать.
И неожиданно хлынувший дождь, под которым она так промокла ночью у Белого дома, что едва не подхватила воспаление легких, и разговоры, и споры, и ощущение полного бесстрашия, которое ей было не в диковинку, но которое многие открыли в себе впервые.
Она даже о Косте забыла и вспомнила только когда все кончилось и он наконец застал ее дома звонком.
– Лерочка, да я чуть с ума не сошел! – услышала она взволнованный Костин голос в трубке. – Неужели ты была на улице, как же можно!
– А где же мне было быть? – пробормотала Лера: она едва не падала после бессонных ночей.
– Представляю, что было с мамой!
– Да ничего с ней не было, все нормально, – успокоила мужа Лера. – Я, Коть, наверное, уже не приеду. Ратманов звонил, он симпозиум готовит… Ты когда будешь?
Мама действительно ни разу не попросила, чтобы Лерочка осталась дома. Даже наоборот: когда все кончилось, когда Лера наконец выспалась и смогла членораздельно рассказать обо всем, что видела и в чем участвовала, Надежда Сергеевна сказала, к огромному Лериному удивлению:
– Как все-таки хорошо, что ты так вовремя приехала, правда? Я представить себе не могу, что было бы, если бы тебя там не было…
И то, что после всего этого время снова потянулось так безысходно, так уныло – с пустыми магазинами, ощущением собственной незначимости, – не могло, конечно, длиться долго.
Лера радовалась переменам, сопровождавшим ее студенческую юность. Да и как было не радоваться: все в ней звенело и трепетало, когда она читала то, что раньше невозможно было читать, говорила о том, о чем раньше люди боялись даже шептать. Господи, да все у нее было, как у всех – и митинги, и «Архипелаг», и пронзительное ощущение свободы…
Однажды она шла по Петровским линиям, потом свернула в Камергерский и вдруг поняла: а ведь вот в том доме горела на столе свеча, а потом стоял гроб доктора Живаго, и сюда приходила проститься с ним, мертвым, Лара!.. И она, Лера, живет в десяти минутах ходьбы от этого дома…
Что значили по сравнению с этим пустые прилавки, и очереди, и дефицит всего и вся! Хотя Лера ненавидела убогую жизнь, но потерпеть ради свободы…
И только теперь, впервые, она подумала: свобода – это хорошо, но лекарство-то все равно будет нужно, и никто его на блюдечке не принесет. Мысли эти были не то чтобы мучительны, но назойливы, и Лера каждый день ощущала их свербящую неотвратимость.
Она даже не догадывалась, что всего лишь через какие-нибудь полгода об этом придется задуматься очень многим людям – в ее дворе, в Москве и за ее пределами. И далеко не все поймут то, что поняла она: что никто не принесет на блюдечке…
А главное, за мыслями должно было следовать действие, так было у Леры всегда, и сейчас она раздумывала только – какое.
Как обычно и бывает, выход оказался там, где его и не думаешь искать.
Ранний утренний звонок разбудил Леру, но не заставил проснуться окончательно.
– Попросите гражданку Михальцову, – услышала она женский голос в телефонной трубке.
– Сейчас, – ответила Лера. – Узнаю, дома ли гражданка.
Она взяла с тумбочки бронзовый бюстик Пушкина и три раза коротко постучала по трубе парового отопления. Услышав ответный стук сверху, Лера сказала в трубку:
– Она подойдет ровно через минуту.
Волей-неволей пришлось просыпаться совсем, вылазить из-под теплого одеяла на холодный пол и шлепать к двери, чтобы открыть Зоське.
Зося Михальцова жила как раз над Лерой, но не в квартире, а, по сути, на чердаке, и телефон там был не положен. Но ведь человек не может жить посреди Москвы без телефона, это просто ненормально – и Зоське звонили по Лериному номеру.
Зося была на три года моложе Леры. Сейчас, когда и самой Лере уже исполнилось двадцать пять, казалось, что Зоська жила в их дворе всегда, но на самом деле это было не совсем так. Лера отлично помнила, как та появилась здесь – шестилетняя, маленькая, с мышиной светлой косичкой.
Зосина мама Любовь Петровна устроилась дворничихой, и ей тут же дали служебную жилплощадь – эту самую комнату на чердаке. Кажется, за Любой Михальцовой числилась даже не комната, а койко-место. Но чердачная квартира все равно пустовала, жил там только слесарь, тоже занимавший одну комнату, – и Люба устроилась попросторнее.
Ее две комнаты находились в самом конце необозримого обшарпанного коридора с холодными стенами, закрашенными облупившейся масляной краской. От входной двери и от туалета было еще идти-идти, чтобы попасть к Любе. Пришедшие сюда впервые вообще пугались: не верилось, что в этом мрачном, сыром жилище могут жить люди.
Но Люба жила, и даже неплохо жила. Во всяком случае, открыв дверь в ее апартаменты, гость ахал – таким неожиданным теплом и уютом веяло на него прямо с порога. Уютными казались сводчатые – по форме крыши – потолки, и полукруглые чердачные окна, и круглый стол с бахромчатой скатертью, и даже трещина в стене, завешенная большой фотографией Зосиных покойных бабушки и дедушки.
Обстановка в двух крошечных комнатках была более чем простая, но это никому не мешало чувствовать себя здесь как дома. Как не мешало этому отсутствие горячей воды и ванной, и то, что холодная вода была зимой не просто холодной, а ледяной: слишком близко к улице проходили трубы.
То есть, наверное, Люба очень даже ощущала все эти «удобства», но она была такая тихая, безответная, так радовалась тому, что может жить с дочкой не в общежитии, а в квартире, – что ей и в голову не приходило жаловаться.
Каждый, кто приходил в этот дом, тут же проникался щемящим, пугающим чувством беззащитности этих двух одиноких женщин – Любы и ее дочки, и даже как-то терялся: как же они живут вот так, одни? Хотя мало ли женщин живут с детьми в одиночестве, и гораздо хуже…
Но Зосю впервые увидели не дома, где она была словно бы защищена самой беззащитностью своей матери, а во дворе, где действовали довольно жесткие детские правила. Эту жесткость Зося сразу же ощутила на себе.
Дело в том, что звали ее Жозефина. Один бог знает, почему Любе пришло в голову назвать единственную дочь таким странным именем – даже в Москве странным, не говоря уж о городке под названием Обоянь, откуда она привезла девочку, как только немного обустроила свое жилье.
Но когда Зося впервые вышла во двор погулять, держа в руке скакалку, и сообщила девчонкам и пацанам, как ее зовут, – в ответ ей раздался такой хохот, что она покраснела и слезы выступили у нее на глазах.
– Жозефина?! Вот это да! – громче всех хохотал Женька Стрепет из второго подъезда. – Что ж ты думаешь, мы тебя так и будем звать? Нет, мы тебе другое придумаем имя!
И они начали наперебой придумывать.
– Жозя!
– Физя!
– Тогда уж лучше просто Жопа!
Это была обычная жестокость восьми-девятилетних детей, с которой мало кто не сталкивался в детстве. Но для маленькой Жозефины все это было настоящей трагедией. Она бросила скакалку и, в голос разрыдавшись, убежала домой.
– Жозя! Физя! – неслось ей вслед.
Все это повторялось с завидным упорством, когда бы Жозефина ни вышла во двор. Неизвестно, почему так травили эту маленькую беленькую девочку из-за такой ерунды, как вычурное имя, – но дети уже не могли остановиться. Ко всему добавлялось еще и то, что Жозефина была «из деревни», и это давало дополнительный повод к насмешкам.
Трудно сказать, чем кончилась бы эта травля, длившаяся несколько недель, если бы не Митя Гладышев.
Митя появлялся во дворе редко – у него не много времени было для прогулок, – но метко. И неудивительно – он был душой двора, а это ведь и у каждого отдельного человека так: душа, она же не может быть видна постоянно – когда, например, человек жует свой повседневный бутерброд или мчится за утренним автобусом. Но уж если она у него есть, то никуда и не денется.
Митя возвращался с занятий, держа в руке футляр со скрипкой, и вполне мог не заметить Жозефину, спрятавшуюся под покатой подвальной крышей возле его подъезда. Тем более что уже смеркалось, а после своих скрипичных уроков Митя вообще мало что замечал. Но он все-таки услышал шмыганье и тихое иканье, доносившееся из-под крыши, тут же заглянул туда и извлек на белый свет Жозефину.
– Чего ревем? – спросил Митя, присев перед ней на корточки и с усмешкой вглядываясь в опухшее личико.
Ему было в это время четырнадцать, а он уже заканчивал Центральную музыкальную школу и, конечно, имел право насмешливо относиться к сопливой мелочи.
– Ничего-о! – прорыдала Жозефина.
– Ничего – не бывает. Скажи, скажи – может, я тоже с тобой пореву! Ну, что молчишь?
Жозефина подняла на взрослого мальчика голубые зареванные глаза и, проникнувшись к нему неожиданным доверием, сообщила:
– У меня плохое имя!
– Плохое? – удивился Митя. – Думаешь, бывают плохие имена? И как же тебя зовут?
– Жо…. Жозефина… – выговорила она с опаской.
Митя не выдержал и тоже улыбнулся.
– Да-а, вот это фантазия! Ну и что? Разве ты не можешь жить со своим именем?
– Я могу. – Глаза Жозефины снова стали наливаться слезами. – Я могу, но они же не могут! Они меня дразнят, придумывают другие имена всякие, и к тому же я – из деревни!..
– Из деревни – ничего, – возразил Митя. – Ломоносов тоже был из деревни. А как тебя мама дома называет?
– Так и называет – Жозефина. Ей нравится.
– А внимания ни на кого не обращать ты разве не можешь – тем более, маме нравится? – спросил Митя.
Он разговаривал с ней так серьезно, несмотря на то что был совсем взрослый, – что Жозефина прониклась к нему полным доверием.
– Не могу, – вздохнула она. – Я бы отсюда насовсем уехала обратно в Обоянь, но бабушка умерла, и мама сказала, что я теперь буду жить здесь с ней всегда.
– Не уезжай в Обоянь, – попросил Митя. – Ты мне нравишься. А им скажи… Скажи, что тебя зовут… Какое-нибудь простое имя… Да, скажи, что тебя зовут Зося, вот и все! Зося – это красивое польское имя, по-моему, можно считать его уменьшительным от Жозефины. И заодно можешь сказать, что твоя прабабушка была польская королева и враги ее сослали в эту Обоянь. Чтобы они заткнулись насчет деревни, если уж тебя это так удручает. А если не заткнутся – можешь сказать, что я их убью. Меня зовут Митя Гладышев, я живу в этом подъезде, в седьмой квартире, и они меня знают. Поняла, Зося?
И он исчез в темноте подъезда, словно растворился под звон дождевых капель о крышу подвала.
Но самое удивительное, что так и получилось, как он сказал! Как только Митя дал ей имя, Зося словно заново появилась в их дворе – и никто, ни один человек, как по мановению волшебной палочки, не обидел ее больше! Ей даже не пришлось говорить про польскую королеву – всем и так понравилось ее новое имя, и ее наконец признали здесь своей.
Лера обо всем этом узнала позже, от Мити: в то время она болела свинкой и целый месяц не показывалась во дворе.
Нельзя сказать, чтобы Лера очень уж дружила с Зосей в школьные годы. Все-таки сказывалась трехлетняя разница в возрасте, да и учились они в разных школах. Но они отлично знали друг друга, и знали, что могут рассчитывать друг на друга всегда. И разве этого мало?
Поэтому Лера не находила ни странным, ни утомительным, что Зосе звонили по ее телефону.
Оставив дверь открытой, Лера снова забралась в постель, легла на Костину подушку. Она любила поспать подольше и с удовольствием использовала аспирантскую возможность не бежать чуть свет на лекции. А Костя в свои аспирантские годы чуть свет уезжал в Институт, к улиткам.
– Да, конечно, – говорила Зося по второму аппарату в прихожей. – Конечно, поеду опять. Нет-нет, самолетом дорого! Я без претензий…
«Интересно, куда это Зоська собирается, да еще самолетом?» – подумала Лера, поняв, что заснуть не удастся.
– Спасибо, Лер. – Зоська заглянула в комнату.
Она мало изменилась с тех пор как пятнадцать лет назад впервые зашла к соседке Лере, жившей прямо под ее чердаком. Те же тоненькие, прямые и мягкие как пух светлые волосы, те же голубые глаза – маленькие, как и все черты ее лица, как и остренький носик. Внешность у Зоси была не слишком примечательная, но милая – в маму Любу. И она была похожа на птичку-синичку.
– Не за что, – ответила Лера. – А ты что, ехать куда-то собираешься?
– Да ведь я езжу уже, ты разве не знаешь? – удивилась Зося.
– Куда это? Ничего не знаю!
– В Турцию, челночницей. Я как раз с фирмой говорила, которая шоп-туры организует.
– Надо же! А я думала, ты в детском саду своем работаешь.
– Нет, какой теперь детсад!
– Но тебе же нравилось?
– Ой, теперь не до того, чтоб нравилось, – махнула рукой Зося. – Мы же на квартиру на очереди, ты знаешь? А теперь – пожалуйста, предлагают только кооператив. Или ждать еще лет сто, тоже вариант. Кооператив – ты представляешь, сколько он теперь стоит? Но я уже не могу, Лер! – воскликнула Зося. – В Сандуны ходить всю жизнь – дело хорошее, но когда вода замерзает в кране… И трещина такая стала, прямо ветер свищет. Кажется, дунь, и развалится стена. А никому дела нет. Говорят, не хотите кооператив – ваши проблемы, значит, можете подождать. А эти поездки – Лер, ты себе не представляешь! Раза за три можно первый взнос оплатить…
– Подожди, Зоська, не сыпь так быстро, – остановила ее Лера. – Я все поняла, но ты мне расскажи подробнее. Пойдем на кухню, кофе пить.







