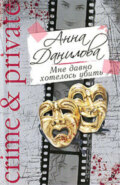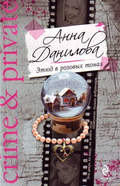Анна Данилова
Грех и немножко нежно
© Данилова А. В., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Посвящается моей маме
Все события, представленные в романе, вымышлены, и совпадения сюжета и жизни персонажей с реальными людьми – случайность.
1. Кира
Казалось бы, еще совсем недавно она слышала ленивые насмешки Иды, отпускаемые ею исключительно из желания как-то по-доброму повлиять на нее, на свою подругу Киру, стоящую посреди большой кухни и мокрой тряпкой тщательно протирающую липкую баночку со свежим персиковым вареньем:
– Что, снова к своему краеведу пошла, да? Вареньице понесешь? Пирог наверняка испекла, да? С яблоками? А… Со сливами, ну что ж, тоже ничего… И что будет после того, как он его съест? Думаешь, женится на тебе с разбегу? Съест и ляжет переваривать на диван перед телевизором. Все! Думаю, что он о тебе даже и не вспомнит!
Ида стряхнула пепел с сигареты в пепельницу, поправила свои мягкие блестящие каштановые локоны.
Кухня была залита солнцем, в распахнутое окно заглядывала ветка американского клена и покачивалась, словно соглашаясь с каждым произнесенным Идой словом.
Кира же, растрепанная, с кое-как заколотыми прядями вьющихся русых волос, в белой шелковой блузке, застегнутой на мелкие круглые жемчужные пуговицы, и черной шерстяной юбке продолжала протирать маленькую пузатую баночку с персиковым вареньем, но уже истерично, нервно, протестуя против вмешательства подруги в свою личную жизнь.
– А что мне еще ему принести? – Ноздри Киры раздувались, она пыхтела и сопела как ребенок, хотя ей было уже тридцать два.
– Кирочка, да ты бы лучше пришла к нему и разделась, легла бы на кровать… Вот тогда, глядишь, твой Юрочка и обратил бы на тебя внимание. Уж не знаю, как бы там дальше все развивалось, но уж тогда бы он точно увидел в тебе женщину.
– Профурсетка ты, Идка! Глупости такие мне говоришь… Да что он подумает обо мне, если я разденусь? Скажет, что я…
– Думаю, он оценит твою красивую грудь, которую ты постоянно прячешь, наглухо застегиваясь… Ты же даже и не пробовала носить декольте! Думаю, он увидит твои стройные ножки, которые ты скрываешь под длинными юбками и уродуешь «балетками» без каблуков, вместо того чтобы встать на тоненькие шпильки… Уверена, что он не забудет твои дивные плечи, твою прекрасную кожу… И очки надо сменить, куда это – роговая оправа – грубятина, жуть!!! А еще лучше – купи себе линзы!
Кира, уже привыкшая к подобным разговорам, быстро успокоилась и принялась нарезать на куски пирог с творогом и укладывать его в пластиковый контейнер.
– С изюмом? – спросила Ида, вставая и потягиваясь. – Дай-ка сюда кусочек!
Она стянула с противня большой кусок пирога и надкусила.
– Пирог – супер! Просто объеденье…
Это было тихое августовское утро, за окном заливались птицы, небо словно подернуто золотистой дымкой, день наливался зноем, и все вокруг дышало ленью.
И кто бы мог подумать, что в скором времени Кира вернется к себе домой бледная как смерть, кинется в угол темной прихожей и замрет, прислушиваясь к своему дыханию и биению сердца, которое, как ей тогда казалось, может остановиться в любую минуту. А потом как полоумная примется носиться по квартире, не зная, с чего начать уничтожать следы крови, которой будут выпачканы ее белые «балетки», рукава белой шелковой блузки и даже щека!
Квартира заполнится запахом хлорки, мыла, духов, которые она выльет на себя из желания вытравить запах смерти.
– Фу, ну и «ароматы» у тебя тут! – возмутилась забежавшая «на пять минут» подружка (она же и соседка дверь в дверь) Ида Зийбель в шесть вечера. – Хоть всех святых выноси!
Она выглядела по-вечернему нарядно, в черном платье с открытой спиной, с уложенными волосами, в меру подкрашенная, вся какая-то праздничная, в прекрасном расположении духа, какое всегда предшествует свиданию с мужчиной. И если прежде, видя Иду в такие моменты, Кира всегда радовалась ее приходу и даже пыталась представить себе какие-то детали свидания (улыбку почему-то синеглазого мужчины, ресторан, залитую розовым светом ночника постель с полуобнаженными мужчиной и женщиной), то в тот вечер ей захотелось даже заскулить от досады и отчаяния, поскольку она просто не знала, как себя вести с подругой, какую скроить мину.
Лгать было не в ее привычках и не соответствовало ее принципам. Рассказывать правду она тем более не могла. Оставалось одно – замолчать все, что произошло. Но как себя при этом вести, о чем говорить? Делать вид, что ничего вообще не случилось, ей вряд ли удастся.
– Так чего так хлоркой-то воняет? – Ида вошла в кухню, достала сигарету и закурила. Задав вопрос, она явно не надеялась получить ответ.
– Генеральную уборку затеяла, – придушенным голосом сказала Кира, зачем-то доставая из холодильника капусту. – Духи опрокинула… Вот поэтому такие запахи…
– Ну, тогда рассказывай, подружка, как прошло свидание? Он оценил твой пирог, варенье?
– Ты же знаешь, Ида, он при мне никогда не ест. Мы просто поговорили… ни о чем… как всегда… Он сказал, что очень спешит, что у него какая-то комиссия в музее, и мы с ним вышли из квартиры. Он пошел в одну сторону, я – в другую. А еще я подумала, что ты, наверное, права, и он никогда меня не полюбит, – Кира специально принялась развивать эту больную для нее тему, в надежде что хотя бы она будет звучать естественно и ей не придется фальшивить.
– Этих мужчин никогда не поймешь, особенно таких тихих и опасных «ботаников», как твой Юрий Михайлович. Мне кажется, что он вообще какой-то недоделанный и у него в штанах вместо члена какой-нибудь древний свиток. А еще, ты не обижайся, конечно, но у него какой-то грязноватый вид, несвежая рубашка, сальные волосы, да и взгляд какой-то грязненький…
– Хватит, Ида! Просто он другой, вот и все! – воскликнула она с жаром. – Он – ученый, историк, у него голова занята его работой, наукой…
– …и забита пылью! – весело расхохоталась Ида. – Говорю же, не обижайся! Но мне действительно кажется, что ты могла бы найти себе более подходящую кандидатуру в мужья или в любовники…
– Любовники… – вспыхнула Кира. – Вот снова ты об этом. Он – не такой!
– Ты же ничего о нем не знаешь, совсем ничего!
– Почему же? Знаю. Он не женат, ведет очень скромный образ жизни, много читает, изучает древние книги, постоянно наводит порядок в нашем музее, все что-то подклеивает, подшивает, рассортировывает, подписывает, систематизирует… Я просто хочу сказать, что он старается для потомков, чтобы они знали о нашем городе и крае как можно больше! Если не он, то кто расскажет им о том, что было до нас и с нами? Ты вот, к примеру, не знаешь, что он готовит сейчас новую экспозицию, где будет представлен сегодняшний день… Это безумно интересно! Вот как один из залов нашего музея оформлен в виде комнаты девятнадцатого века, со старинной мебелью, утварью, а в стеклянных шкафах демонстрируется одежда того времени, так будет и с современным вариантом. Поскольку музей существует на те крохи, что ему отпускает государство, и этих денег едва хватает на поддержание помещения, охрану и зарплату двум работникам – Юрию Михайловичу и Елизавете Вальтеровне, смотрительнице, которая является одновременно и уборщицей, то Юрию Михайловичу пришлось для создания своей новой экспозиции самому собирать всю мебель, посуду, бытовую технику, одежду…
– Знаю-знаю, ты же помогала ему, отдала свою старую куртку, резиновые сапоги, сломанный миксер…
– Да, ну и что такого? Может быть, через сто лет эти предметы на самом деле будут интересны нашим потомкам…
– Ох и скучная же ты, Кирка…
– Может, я и скучная, но где-то в глубине души ты понимаешь меня, – с надеждой проговорила она, заглядывая в красивые глаза подруги.
– Знаешь, иногда мне кажется, что мы с тобой потому и дружим, что такие разные… Может, я и говорю тебе какие-то обидные вещи, но любя… А еще… ты как будто отрезвляешь меня… не знаю, как выразить… Сдерживаешь, что ли… и не даешь мне окончательно провалиться в пропасть… – сказала она неожиданно даже для себя искренне. – Так что не парься, я тебя очень люблю. Просто не хочу, чтобы ты вышла замуж за этого страшненького Юрия Михайловича. К тому же он не обращает на тебя никакого внимания! У тебя гордость-то есть? В нашем городе полно молодежи, тебе всего-то тридцать…
– Тридцать два.
– Да какая разница! Мы с тобой ровесницы, да только у меня вон сколько мужиков, а у тебя не было ни одного!
Кира почувствовала, как горячая волна накрыла ее с головой. Что она знала, Ида, о ее мужчинах? Вернее, о ее единственном мужчине, который сделал из нее женщину в физиологическом смысле этого слова, растревожил сердце и душу, а теперь вот делает вид, что они едва знакомы?!
Это было на Новый год, на праздничном вечере, который устраивала администрация Зульштата своим жителям. Один из самых крупных городов бывшей республики немцев, Поволжья, потерявший, однако, практически весь свой немецкий колорит, а заодно и трепетное отношение к своему католическому собору, Зульштат под руководством советской власти превратил его в городской клуб, где и проводились общегородские мероприятия. Новогодний бал в стенах бывшего католического собора с высоким сводчатым потолком проходил торжественно, с нарядно украшенными стенами и елкой, накрытыми столиками и концертом. Только самые ленивые жители отказывались принять участие в этом празднике и встречали Новый год у себя дома. Весь же цвет города, его «аристократическая, интеллигентная» верхушка (чиновники, учителя, руководители предприятий и бизнесмены) заранее раскупали билеты. К празднику дамы шили новые наряды, мужчины покупали костюмы, в столовой администрации готовили закуски, а в городской кондитерской пекли торты и пирожные. Вот на таком балу и встретились Кира Бирман и Юрий Михайлович Ланг, потомки старинных немецких семей, проживавших в Зульштате, случайно оказавшиеся за одним столиком. Столик был рассчитан на четверых, однако два места пустовали. Получалось, что Новый год они встретили вдвоем, чокнулись бокалами, улыбнулись друг другу под громкую музыку и какой-то искусственный голос ведущего вечера.
Кира и сама не поняла, как это вышло, что она не рассчитала с алкоголем, пила шампанское, как лимонад, скромно закусывая красной рыбкой, тортом и осторожно поглядывая на одинокого, скучающего вида соседа, лихо опрокидывавшего в себя водку из маленькой рюмочки, после чего проснулась в чужой темной квартире ранним утром, голая, с больной головой… Собирала по полу трусы, теплые рейтузы, а бархатное длинное платье винного цвета вообще нашла в прихожей, на полке с обувью…
Бежала по фиолетовым сумеркам до своего дома так быстро, что ноги не успели замерзнуть. Где оставила сапоги? Где, кому подарила девственность, так и не поняла… Это позже, случайно, проходя мимо краеведческого музея, увидела, как мужчина, в квартире которого она проснулась и имени которого не знала, входит в парадную дверь. Проследив за ним до его кабинета, она узнала, что он является директором музея и что зовут его, как следовало из надписи на табличке, Юрий Михайлович Ланг.
Увидев Киру в дверях своего кабинета, Юрий Михайлович сначала долго вглядывался в нее, пытаясь, видимо, вспомнить, где же он видел эту женщину в кроликовой шубе и нахлобученном на голову капюшоне, но на всякий случай кивнул головой и спросил, что ей нужно.
– Да вот, зашла в ваш музей… первый раз, – соврала Кира, посещавшая музей еще будучи школьницей младших классов.
Она ждала от него хотя бы какого-нибудь проявления ласки, теплого слова, но Ланг пожал плечами и отправил ее к смотрительнице Елизавете Вальтеровне, мол, она вам все покажет и расскажет. И углубился в чтение какой-то книги.
Он ее так и не вспомнил!
Музей она в тот раз обошла весь под стрекотанье смотрительницы, высокой сухой старушенции, талантливого экскурсовода. А через пару дней снова пришла в музей, постучалась к Лангу. Вошла, села напротив него и, глядя ему прямо в глаза, спросила: «Где сапоги?»
Он смотрел на нее поверх своих очков некоторое время, потом глаза его стали расширяться, а на носу выступили капли испарины.
– Так это вы? – шепотом произнес он, доставая носовой платок и промокая им свое круглое розовое лицо.
– Да, это я. С Новый годом, Юрий Михайлович, – с легким упреком произнесла Кира и склонила голову набок в ожидании ответа и нормальной уже реакции мужчины на визит любовницы.
– Сапоги у меня, я нашел их под кроватью и готов вернуть, когда вам будет угодно. Вы уж извините, что я вас не узнал… Сам не знаю, почему все так случилось… Выпил лишнего… Закусок было много, и я не думал, что меня так развезет… Да я вообще думал, что вы мне приснились!
– Вообще-то меня зовут Кира.
– Очень приятно, Кира.
– Если удобно, я могу прийти к вам сегодня вечером за сапогами, – храбро предложила она, в душе желая попытаться продолжить отношения.
– Нет-нет, не стоит себя утруждать… – Он часто и мелко замахал руками, словно загребая снег. – Вы приходите завтра в это же время, утром, сюда, и я верну вам ваши сапоги… постойте, но как же вы тогда дошли до дому?
– Выпила воды, разбавила винные пары… – улыбнулась она, – и добежала… как пьяная была…
Но даже ее улыбка не повлияла на температуру их отношений.
– Вы извините, но я сейчас очень занят…
Кира целый день действительно ходила как пьяная, представляя себе их новое свидание. Она знала из книг и рассказов своей подруги Иды, что мужчины в большинстве своем существа в себе неуверенные, нерешительные, и что их «нужно брать». Кире хотелось нормальных отношений, мужа, детей, и она решила действовать.
Для начала испекла пирог с замороженной вишней, завернула в новое кухонное полотенце с вышивкой и положила в сумочку.
Вымылась, уложила феном волосы, надела новую белую блузку, черную юбку из дорогой английской шерсти (мама надевала ее всего-то пару раз, незадолго до смерти), черные итальянские колготки, ботинки на меху, набросила шубку и побежала к Лангу.
Он встретил ее в домашних широких штанах с отвисшими коленями, шлепанцах на босу ногу и просторной полосатой рубашке. Увидев Киру, Ланг нахмурился.
– Проходите, – наконец сказал он, впуская ее к себе.
Если бы Кира могла читать мысли, то прочла бы его сильнейшее нежелание видеть ее и вспоминать все то, что произошло тогда между ними в новогоднюю ночь. Животный инстинкт, один на двоих, сыграл с ними злую шутку, позволив сблизиться телесно, но отнюдь не духовно. И виной тому стал, конечно, алкоголь, с которым ни Ланг, ни Кира не умели обращаться и не знали своей меры. Ланг не собирался нести ответственность за произошедшее, к тому же он и не понял, что лишил девушку девственности. Да он вообще почти ничего не помнил. И вот теперь она здесь, пришла, и они оба не знают, что сказать и как вести себя.
Кира же, пройдя в квартиру, осмотрелась и отметила, что квартира запущена, что ее невозможно привести в порядок без ремонта и что, если Ланг только пожелает связать с ней свою жизнь, она готова здесь потрудиться. Кира мысленно уже и побелила потолок, и поклеила обои, сменила линолеум на ламинат, купила новые занавески и диван в гостиную.
– Вот, пирог, – сказала она, очнувшись от своих грез, разворачивая вышитое полотенце. – С вишней.
В тот первый вечер они пили чай, Ланг рассказывал Кире о своей работе, сетовал на то, что государство совершенно не занимается музеями, что практически не финансирует. Во время разговора он почти не смотрел на свою гостью и пирог тоже почему-то не ел. Он съест его сразу же после ее ухода, но она об этом никогда не узнает.
Права была Ида, конечно, Кира навязывается Лангу. Но кто знает, может быть, именно так и нужно действовать с подобными людьми, чтобы он привык к ней и перестал бояться. Может, когда-нибудь он осмелеет и пригласит ее в кино или в театр в областном центре. Кира считала, что ему нужно просто дать время.
– …И дом в деревне продала, и машину отцовскую, и акции Газпрома, и дачу… И все деньги ему отдала, представляешь? – заливалась Ида, продолжая какую-то свою мысль, которую Кира давно уже упустила. – Все деньги ему отдала, а он возьми да и брось ее!
– Как… бросил? – Кира надеялась, что главное из разговора она все же поймет.
– Да вот так! Взял денежки и сбежал с ее подругой! Вот так. Они поехали в Москву, и больше уже Нина его не видела. А ведь я ее предупреждала, что нельзя вот так распахиваться перед мужчиной, даже если ты его и любишь… Ладно в душу, в постель свою впустила, но кошелек-то чего открыла? Кому она теперь без денег, с проблемами нужна?
– Ида, а у тебя как дела? Ты замуж не собираешься?
– Кира, ты заболела, что ли? Это когда я хотела замуж? Ну уж нет, дудки! Но если я почувствую, что мужчина действительно любит и готов подарить мне, скажем, дом или машину, словом, пожертвовать для меня что-то материальное, крупное, то это будет означать его серьезные чувства ко мне. И вот тогда, поверь мне, Кирочка, я буду самой милой и преданной женой на свете. Я буду варить своему любимому суп и жарить котлеты, рожу ему детей и стану во всем его поддерживать… А пока я этого не почувствую, буду тянуть с мужиков деньги, вот так-то.
– Но разве то, чем ты занимаешься, не является… проституцией?
– Глупая! Это называется любовь… Только другая, понимаешь? Я позволяю мужчине любить себя и проверяю его чувства…
Кира закрыла глаза и снова увидела кровь на бетонном полу, лицо мертвой девушки, маленькое колечко с рубином на безымянном пальце, кружевную блузку с расплывшимся пятном в области груди, серую шелковую юбку…
И голос ее, звонкий, высокий: «Убери от меня свои руки, гадкий, вонючий, противный урод!!! Меня сейчас вырвет от тебя!»
Они снова поговорили с Идой о невозможности заставить мужчину полюбить себя, затем всегда уверенная в себе Ида как-то по-щенячьи ласково потерлась щекой о щеку своей милой и невезучей подружки Киры и ушла к себе, даже не подозревая, что буквально через несколько минут Кира, умывшись, чтобы остудить разгоряченное фантазиями лицо, бросится вон из дома и побежит, побежит, напрямую, по темным зеленым дворам притихшего Зульштата навстречу своей судьбе…
2. Маша
Каникулы в унылом, пыльном и жарком июльском Зульштате, куда Маша Тропинина отправилась по настоянию своей матери, чтобы навестить тетю Люду, а заодно помочь ей варить варенье и компоты на зиму, буквально за несколько минут потеряли свою непривлекательность и приобрели глубокий и даже авантюрный смысл.
После домашней вишневки, расположившись на веранде, в прохладе ароматного от ночных фиалок сада, перезревшая и одинокая тетя Люда, урожденная Роут, поделилась с племянницей своими мечтами о вдовце-соседе Владимире Иоффе. Человек он очень порядочный, хозяйственный, держит два кафе в центре, а дети его еще два года тому назад уехали на постоянное жительство в Германию, поэтому вряд ли станут препятствовать их браку. Призналась, что два раза он ночевал у нее, что оказался мужчиной сильным и нежным и что она вообще счастлива. Сказала пару слов о его внезапно умершей жене Соне, «сгоревшей» от воспаления легких после грозы, во время которой она оказалась на одном из волжских островов и замерзла, ожидая лодку. Мысль плавно перетекла в траурное русло – вспомнились пышные похороны Сони Иоффе, Зульштатское кладбище, пока что еще сохранившее очертания чисто немецких захоронений, и, наконец, в ночи, ставшей уже не такой романтичной, как во время разговора о любви, а приобретшей зловещую окраску, прозвучало роскошное слово «склеп».
– …так что наша с твоей мамой бабушка, а твоя прабабушка, Марта Краушенбах, похоронена как раз там… Да только никто не знает, где именно.
– Постой… – Маша вынырнула из полудремы, в которую погрузилась после вишневки и сладкого пирога, – как это – никто не знает? Ты же сама сказала – в семейном склепе. Это ведь не иголка, а целый склеп!
Она изобразила руками полукруг, каким и должен был быть по форме в ее представлении каменный склеп.
– Знаю только, что он на немецком кладбище и что должен находиться где-то в самом его центре, в хорошем месте, понимаешь? Да только много времени прошло, в Зульштате уже давно русская кровь практически вытеснила немецкую, а потому и кладбище словно уменьшилось в размере, обросло новыми, русскими, могилами за столько-то лет!
– А когда она умерла? Ну, моя прабабка Марта?
– В 1957 году. Вот как родила твою бабушку, Катрин, нашу маму, так родами и умерла. Ее отец Петр не выдержал такого удара, говорят, он очень уж любил свою единственную дочку, и тоже умер. Но незадолго до смерти спрятал все свое золото (а он был богатым человеком, держал когда-то две мельницы, три пекарни и одну кофейню) в склепе, по слухам, как раз под каменным гробом Марты…
– Жуть! – проснулась окончательно Маша и тряхнула головой. – Зачем ему было прятать золото под гробом?
– Не знаю… может, он чувствовал, что скоро умрет, а потому решил забрать все с собой, чтобы никому не досталось его богатство. Он же к тому времени уже был один, его жена тоже умерла… Он потерял смысл жизни после смерти дочери, поэтому все так и случилось.
– Но если ты мне об этом рассказываешь, значит, и тебе тоже кто-то это рассказал?
– Я думала, что твоя мама тебе уже давно рассказала.
– Ой, ты что, не знаешь мою маму? Она не верит в подобные вещи, а потому даже внимания на это не обратила… Так кто тебе рассказал?
– Твоя бабушка, кто же еще?!
– Но моя бабушка, слава богу, жива и здорова и тоже ничего такого не рассказывала… Ты случайно не придумала все это?
Тетя Люда улыбнулась, посмотрела на Машу долгим загадочным взглядом, после чего куда-то ушла и вернулась уже с альбомом в фиолетовом плюшевом переплете. Между твердых пожелтевших страниц с приклеенными фотоснимками лежали свободно несколько фотографий, которые Людмила с каким-то особым любовным чувством разложила на скатерти. Это были очень старые черно-белые снимки, но на редкость четкие, качественные. На них были изображены мужчины, женщины, мельница, пекарня…
– Вот, смотри, это как раз Марта Краушенбах, ты, кстати говоря, очень на нее похожа, такая же красавица. Говорят, она была брюнеткой с голубыми глазами, и все мужчины нашего города были в нее влюблены. Но она, конечно, любила только своего Гюнтера…
– Так, постой… Что-то я не совсем въехала… Ты сказала, что отец Марты, ну, мой прапрадед, мельник и пекарь Петр Краушенбах, после смерти своей единственной дочери Марты остался совсем один и не хотел, чтобы его богатство досталось чужим людям, так?
– Так…
– Но Марта умерла родами, значит, она была замужем. Ее муж что, тоже умер? Что, они все поумирали?
– Нет, Гюнтер еще долго жил, и его фамилия была другая… Дай-ка вспомню… Нет, мысль крутится, но поймать ее не могу…
– Но тогда и Марта тоже носила другую фамилию.
– Понимаешь, она недолго носила фамилию мужа, как раз девять месяцев, что была беременна… Поэтому в памяти людей она так и осталась Мартой Краушенбах. К тому же она и замуж-то вышла поздно, когда ей было уже тридцать.
– А почему ее отец Петр решил спрятать золото от своего зятя?
– Правильный вопрос… Насколько я поняла, он возненавидел своего зятя за смерть дочери, он решил, что всему виной ее беременность, кажется, мать этого Гюнтера тоже умерла родами… Короче, мы с тобой уже в такие дебри забрались…
– Ну и главный вопрос: почему Петр решил, что его жизнь не имеет смысла, ведь у него же родилась внучка, Катрин?!
– Знаешь, как иногда бывает… Когда роженица умирает, то человек, который ее любил, сваливает всю вину на родившегося ребенка… Но в нашем случае, если даже дед твоей бабушки Катрин, Петр Краушенбах, и задурковал после смерти своей дочери, то уж ее отец, Гюнтер, делал для нее все, что мог. Когда-то его семье принадлежал большой дом…
– И где он сейчас?
– Там сейчас инфекционная больница…
– Фу! Это же наше родовое гнездо!
– Что поделать, советская власть все отобрала…
– А что, если вернуть? Сейчас же это можно сделать…
– А тебе это надо? Думаешь, это так легко сделать? Нужны деньги, много денег… А уж сколько документов – пропасть!
– Но в принципе-то возможно?
– Да говорят, один псих решил вернуть себе Кремль, считая себя прямым и чуть ли не единственным потомком Рюриковичей! Зачем тебе эта инфекционная больница, пропитанная этой самой инфекцией и забитая больными? Да будь у меня вот лично деньги, я бы построила, быть может, копию этого особняка, провела бы туда новые трубы, сделала отопление… Причем строила бы прямо на берегу Волги, рядом с дедовскими развалинами мельницы… Там такая красота!
– А это что такое? – Маша поднесла к глазам небольшой затемненный снимок, на котором были изображены кусты, камни…
– Да вот как раз это вроде бы и есть склеп, – сказала Людмила, откровенно зевая, поднимаясь и принимаясь убирать со стола.
– Какой же это склеп, когда здесь одни кусты?
– А ты приглядись повнимательнее…
– Да я вижу – тут нет никакого склепа! Камни…
– Ты не смотри на эти камни, ты смотри в середину этих кустов, там должен быть вход в склеп. Кто-то из нашей семьи фотографировал. Ты включи свет и рассмотри все хорошенько! А камни эти – они как ориентир. Это разрушенный памятник какого-то доктора, кажется гинеколога, там и буквы есть… «Ch… i… hs». Вот по этому памятнику и надо искать склеп. Да только я тоже, как и все из нашей семьи, не верю в клад. Какое золото? Все, что было накоплено семьей Краушенбах, полетело прахом, когда началась война и нам, немцам, приказали оставить город… Что неправильно это, что в сердце России живут немцы. Предполагалось даже, что фашисты были связаны с нашими немцами, которые якобы вели подрывную деятельность… что сюда уже начали поступать какие-то средства… Что город заполнился шпионами, врагами народа и все такое… Словом, в сорок первом году автономия немцев была ликвидирована, их переселили в Казахстан, в Сибирь… Подогнали баржу и приказали немцам в двадцать четыре часа покинуть город… Все было сделано очень быстро. После того как люди ушли, множество домов оставались пустыми, по улицам ходил голодный скот… Даже кастрюли с супом в этих опустошенных домах стояли еще горячие, когда хозяева были вынуждены взойти на баржу… Думаю, это время было самым тяжелым для наших людей, и кто знал тогда, как надолго они покидали свои дома… потом многие, конечно, вернулись, после пятьдесят пятого года, а кто-то сгинул в Сибири…
– Ну вот… Начали за здравие, кончили за упокой, – сказала Маша. – Вроде мы с тобой не так много выпили, а от разговоров о мужиках скатились до политики… Честно говоря, меня этот вопрос совсем не интересует. В то время вообще было много несправедливого, на то она и война…
– В твоей крови мало немецкого, быть может, от этого такое отношение? – задумчиво проговорила Людмила. – А для меня эта тема всегда была больной.
– Меня волнуют другие темы… – окончательно потеряв интерес к разговору, сказала Маша.
– И какие же, если не секрет?
Впервые, быть может, за все время их общения, растянувшееся на годы, между ними пробежал холодный сквозняк, который отрезвил их на минуту, дав почувствовать, что они совершенно чужие люди, хоть и родные по крови.
– Люда, у меня родители разводятся, ты разве не знаешь?