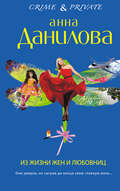Анна Данилова
Комната смеха
Глава 3
Я не верила своим ушам. Гарманов едет ко мне. В такое было трудно поверить. Но он ехал, и от этой мысли меня бросало в жар, в приятный жар. Мне было тогда все равно, где он будет спать, важно, чтобы он просто находился в квартире. Даже спящий, даже занятой и не обращающий на меня никакого внимания. Такого страха перед тишиной квартиры я не испытывала еще ни разу. Эта тишина давила на уши вместе с бинтами, и порой мне казалось, что я схожу с ума.
Первое, что я сделала после того, как Гарманов привез меня домой из морга, где я увидела свою дорогую Басю, это рассмотрела свое тело. Вадим уехал, а я заперлась в ванной, разделась и предстала перед зеркалом голая, но вся в каких-то пластырях, повязках и с забинтованной головой. Надо сказать, увидев себя, такую вот разукрашенную, я поняла, что внешне мало чем отличаюсь от мертвой Баси. Я смотрела на свое отражение, но моя память рисовала мне в зеркале ее тихое, серое лицо с заострившимся носом, запавшими глазами и посиневшими губами. И мое сердце – да простят мне этот горький штамп! – разрывалось на части от боли при мысли, что я никогда не увижу ее живую, красивую, веселую, смеющуюся. Я любила Басю, мне всегда было с ней легко и хорошо. И то истерзанное тело, которое нам показали в морге, не имело с ней ничего общего…
Ее мать потеряла сознание, а брат глухо зарыдал, когда увидел ее на цинковом столе…
Мне кое-как удалось все же с помощью теплой воды отлепить от головы бинты. Как я и предполагала, ощупывая еще в больнице голову, волосы мне остригли. Вероятно, для того, чтобы было проще обрабатывать небольшие раны и шишки. В некоторых местах кожа была содрана, и оттуда сочилась кровь. Приняв душ и осторожно вымыв голову, я обработала раны водкой, некоторые ссадины прижгла йодом, но полностью избавилась от повязок, пластырей и бинтов. И, надо сказать, после этой болезненной и утомительной процедуры мне стало легче. Я надела халат и села на диван перед телевизором. Мне нужно было отдышаться, подумать о том, что со мной произошло и как мне теперь жить дальше. И вот тут-то судьба и сыграла со мной злую шутку. Вернее, даже не шутку, а целый спектакль, срежиссированный самим дьяволом. Ведь именно он, черт, дернул меня взять сумочку и подкрасить губы. Конечно, меня можно упрекнуть в некоторой легкомысленности, ведь красить губы в такой момент, когда надо бы думать о жизни и смерти, о вечном, наконец, разве не кощунственно? Но мною двигало не желание понравиться следователю Гарманову, которого я слезно просила навестить меня, нет. Просто я была тогда так ужасна, бледна и некрасива со своей почти лысой головой и сиреневыми кругами под глазами, что боялась самой себя. Вот я и решила слегка мазнуть красной помадой по губам, чтобы придать живого цвета своему – похожему на мертвое – лицу. Сначала я спросила себя: «Валя, а где твоя сумочка?» И поняла, что маленькая замшевая сумочка, с которой я ходила в последнее время, исчезла. Возможно, ее взял тот, кто убил Басю. Но у меня же не одна сумка. Тогда я достала свою красную сумочку, которую брала с собой последний раз, когда мы с Баськой ходили на мюзикл. У меня в каждой сумке обязательно есть помада. А как же иначе? Вот и на этот раз там оказалась помада. Да только не моя, а Баськина. И я вспомнила, что мы с ней поменялись тогда же, в театре, в туалете. Странное чувство испытала я, держа в руках ее помаду. Баськи нет, а ее помада у меня. Это хорошая помада, дорогая, алая, блестящая. С этой помадой на губах Баська была похожа на кинозвезду. И она знала это, но все равно легко рассталась с ней, чтобы подарить ее мне. Мы только вслух назвали это обменом, а на самом деле Баська просто знала, что мне ужасно нравится ее помада, и сама нарочно предложила ее поменять на мою, обычную, бежевую.
Я достала зеркальце и мазнула помадой по губам. И тотчас увидела Баську… В огромном зеркале туалета театра. Я смотрела в зеркало и красила губы, но отражение показывало мне Баську, красящую губы. Это был как раз тот момент, за минуту до злополучного обмена. Я Баськиным голосом вдруг сказала, обращаясь к кому-то, кто стоял позади меня и кого я по непонятным мне причинам не могла видеть:
– Слушай, мать, давай махнемся. Я тебе свою помаду, а ты мне – свою… Вечно намалююсь, как кукла, ярко, броско. Мне бы что поспокойнее… бежевого цвета…
И тут знакомый до одури голос, мой голос, ответил ей:
– Ты что, того? У тебя же помада – блеск!
– Вот и забирай…
…Все прекратилось. По моему лицу катился пот. Меня всю трясло. Сумасшествие было налицо. Грудь судорожно двигалась, словно кто-то очень нервный и обиженный бился и рыдал под ребрами… Но ведь я же только что была в театре и разговаривала голосом Баськи. И слышала свой голос. Что это?..
Я встала и медленно, на дрожащих ногах, двинулась к ванной, где была сложена пахнущая лекарствами и хлоркой больничная одежда: короткая и безобразная хлопковая рубашка, тяжелый, похожий на одеяло, теплый халат, отвратительный капюшон… Я искала свое белье, но его не было. Звонить в больницу и спрашивать, в каком виде меня привезли туда после всего, что со мной произошло, я не посмела. Меня могли бы не так понять. Но мне хотелось кое-что проверить… Ладно. Тогда я накинула на себя больничный халат, и в нос мне ударил мерзкий запах. В точности такой чуть не лишил меня сил в морге. Я уверенным шагом шла по гулкому больничному коридору, затем свернула направо и толкнула впереди себя обшарпанную желтую дверь. И тут же оказалась в небольшом, тускло освещенном зале. Подошла к столу, на котором лежал обнаженный синий мужчина с отрезанными гениталиями, и вместо того, чтобы закричать, почему-то сказала низким, грудным голосом:
– Бомж. Каждый день привозят таких вот… А потом оказывается, что они все сплошь порядочные люди. Жалко таких. Смотри, какой у него лоб. Как у профессора… Петровна, пойдем кашку поедим…
Ко мне подошла женщина, высокая, огромная, в длинном, до пят, клеенчатом фартуке, забрызганном кровью:
– А какая сегодня каша: рисовая или пшенная?
– Рисовая. Говорят, на молоке.
…Я сбросила с себя халат. Мне казалось, что в ванной комнате до сих пор пахнет мертвечиной. Да что же это такое?
Когда зазвонил телефон, я чуть не упала – настолько нервы мои были на пределе. Подбежала, схватила трубку и, услышав голос Гарманова, предательски зашлась в плаче. Не могла остановиться…
– Все, еду, не реви. Хочешь, по дороге торт куплю?
Совершенно чужой мне человек одним телефонным звонком вернул меня к жизни.
Я вернулась в комнату, спрятала Баськину помаду в сумочку и легла на диван, вытянувшись в струнку и закрыв глаза, пытаясь сосредоточиться. Конечно, я думала о той пятнице, 8 ноября, когда какие-то мерзавцы заманили нас с Баськой в квартиру на улице Бахрушина, изнасиловали, поиздевались над нами и вышвырнули из окна прямо на тротуар. Как ненужных и надоевших кукол с выбитыми глазами и вырванными волосами. Мне подумалось, что, слушая Гарманова, я даже не удосужилась спросить, в чем были мы, Баська и я, когда нас соскребали с асфальта. Неужто мы были голыми? Вспоминая фотографии мертвой Баськи, я почему-то видела перед собой лишь ее залитое кровью ухо, разбитое лицо и неестественно вывернутые ноги, тоже в кровоподтеках. Что же с нами произошло? С чего все началось и когда? Кто первый позвонил или пришел? Куда пригласил? Что предложил? Где мы с ней встретились? Куда пошли? Кого встретили? Что нам могли сказать такого, чтобы мы поверили и согласились пойти на квартиру к совершенно чужому человеку? Сколько их было?.. Как и с чего все началось? Были ли эти отморозки пьяными или обколотыми? И верит ли сам Гарманов в то, что хозяйка квартиры, из которой нас выбросили, ни при чем? А что, если она все знает и покрывает своего внука или племянника? Может, ей угрожают?
Я подумала о том, что если бы не мое нездоровье, то сама бы непременно разыскала эту квартиру, эту бабку и душу бы из нее вытрясла, чтобы только узнать, кого она покрывает. Знаю я этих старух. Вечно прикидываются несчастными, одинокими, нищими, а сами покупают стерлядь на рынке и копят деньги на стеклопакеты.
И вдруг снова эта дурнота. Этот страх, который накрывает с головой. На макушке такое ощущение, словно ее поливают сверху тонкой струйкой ледяной воды, – это нервное. Говорят же: волосы на голове шевелятся. И я не могу сказать, что этот страх конкретный. Я же не знаю своих мучителей и насильников в лицо, я не знаю, кого конкретно бояться, я боюсь вообще. Страшно боюсь. До головокружения, до обморока, до смерти. А еще много мыслей о кладбище, о земле, начинающей промерзать холодными ноябрьскими ночами, той самой кладбищенской земле, в которую буквально через пару дней закопают мою лучшую подругу, мою Баську.
Пришел Гарманов. Как осветил меня изнутри. Дурнота закончилась. Увидев его на пороге, я испытала невероятное облегчение. Совершенно незнакомый мне, чужой человек стоял передо мной с коробочкой торта в руках и смотрел на меня усталым взглядом.
– Привет, заяц, – сказал он, протягивая мне торт.
– А почему заяц? – покраснела я по еще не известной мне пока причине. Стушевалась просто.
– А потому что трусишка зайка серенький.
– А… Понятно. Проходите. Если бы вы не пришли, не знаю, что со мной было бы. Мне нехорошо… И перед вами неудобно… Может, вас дома кто ждет, а вы… тут… Неприятности будут? Или вы на пару минут?
– Вообще-то, я хотел попроситься к тебе на ночлег. Я и зубную щетку взял. Можно?
В груди у меня стало горячо, и дыхание перехватило. Я не верила своим ушам.
– Вадим…
– Можно без отчества.
– Вадим, я ужасно рада, что вы пришли. Я постараюсь, чтобы вам было здесь хорошо. Вы же понимаете, что меня надо охранять… Я же живой свидетель. Мои мучители не знают, что я ничего не помню, а потому могут желать моей смерти. То есть наверняка захотят избавиться от меня. Ведь так? Ведь мне есть чего бояться?
– Да успокойся ты. Я же здесь. Ставь чай, будем торт есть…
Он снял пальто, разулся, прошел в комнату, сел в кресло и тут же уставился на экран телевизора, где шли новости. Я пошла на кухню, поставила чайник, засыпала заварку, порезала на куски торт. Села за стол, положила руки на столешницу и увидела, что они дрожат. Сильно дрожат. Затем вышла из кухни, заглянула в комнату – Гарманов, оставаясь все в той же позе в кресле, делал вид, что смотрит телевизор, хотя на самом деле глаза его были плотно закрыты, да и похрапывал он слегка. Смешно. Сон застал его врасплох. И разбуди я его сейчас, он не сразу поймет, наверное, где находится и с кем.
Я на цыпочках подошла к вешалке и потрогала его пальто. Затем, рискуя всем на свете, осторожно сняла его с вешалки и накинула себе на плечи. И сразу же мне стало холодно. Я поняла, что стою на обочине дороги. Идет холодный дождь. Вокруг стоят милицейские машины, белый фургон «Скорой». Слева от меня, в овраге, поросшем деревьями с уже облетевшей листвой, лежит искореженная, обгоревшая машина. В воздухе пахнет гарью. В моей голове ни одной мысли о том, что я вижу. Внутренним зрением я обращен к женщине, обнаженной женщине, крепко спящей на незнакомой мне кровати. И я знаю ее и не знаю. К тому же я испытываю к ней очень сложное чувство: я люблю ее, я хочу ее, но одновременно я знаю, что никогда не увижу ее, я не хочу ее видеть, не могу… Более реально: мой взгляд скользит вниз, прямо у моих ног, на покрытой грязью обочине трассы, явно загородной трассы, лежит уже другая женщина. Точнее, то, что от нее осталось. Обгоревшая субстанция, едва прикрытая желтой клеенкой. Откуда-то взявшийся тусклый луч солнца высветил оригинальную пряжку на поясе ее одежды. Непонятно, пальто это или платье. Рядом с обгоревшим трупом – туфли. Закопченные, ставшие похожими на замшевые, с острым каблуком. Вероятно, ее туфли. Кто-то говорит: «Как она могла вести машину на таких каблуках?» Еще один голос: «Мужу еще не сообщили?»
…Я, потрясенная, сбросила с себя пальто моего гостя и спасителя и повесила его на место. Сходить с ума было приятно.
Глава 4
Алексей Владимирович Тарасов пил коньяк у себя на кухне. Даже похоронив жену, он продолжал все еще воспринимать мир таким, каким он был до ее смерти. Он пил коньяк, но думал, что дома он не один, что Эмма рядом, где-то очень близко. Или стирает что-то в ванной, или гладит в комнате перед включенным телевизором, или просто читает в спальне, зажав в кулачке жареные семечки. Эмилией ее редко кто звал. Все звали ее Эммочкой, для Алексея она была Эммой. Она была необыкновенной женщиной. Красивой, умной, в меру ироничной и очень непритязательной. Работала в каком-то институте, который занимался неизвестно чем. Жена много раз объясняла Алексею, чем именно, но он так и не понял. Что-то связанное с биологией, химией или биохимией. Таких странных институтов в Москве – сотни, если не тысячи. Большое серое здание, куда вход только по пропускам. В здании есть все: и своя столовая, и свой санаторий-профилакторий, и маленький комбинат бытовых услуг, и даже бассейн… Микромир, в котором восемь часов в сутки проводила Эмма. Утром вставала, приводила себя в порядок, завтракала и бежала, чтобы успеть на служебный автобус. Вечером прибегала, готовила ужин, прибирала в доме и ложилась отдыхать. Они прожили вместе восемь лет. Алексею было сорок два года, Эмме – тридцать четыре. Детей не было. Что-то не получалось. Разговаривали мало – стали понимать друг друга без слов. Жизнь была налаженной, упорядоченной, простой, удобной. Гостей принимали редко – Алексей ревновал жену ко всем мужчинам, которые появлялись в их доме. И хотя она никогда не давала повода для ревности, Алексею достаточно было поймать взгляд мужчины, обращенный к Эмме, чтобы испытать неприятное до тошноты чувство кажущейся заброшенности и приближающегося одиночества. Воображение его тотчас рисовало жену в объятиях этого мужчины. Он был уверен, что то чувство восхищения, какое не проходило у него по отношению к жене вот уже восемь лет, свойственно и другим мужчинам, находящимся рядом с Эммой, будь то на работе или в иной обстановке. И он ревновал Эмму, получается, к целому институту, к тому микромиру, вход в который для него, Алексея, был закрыт. Нет, он мог бы, конечно, выписать пропуск и пройти туда, встретиться с женой и поговорить с ней на лестнице. Но и это была бы мука. Увидев в каждом проходящем мужчине своего потенциального соперника, он испытывал бы снова и снова саднящее чувство собственника, который рискует в любой момент потерять принадлежащую ему дорогую вещь. При такой болезненной ревности семейная жизнь могла бы превратиться для обоих в ад, если бы не выдержка, благодаря которой Алексей старался лишний раз не устраивать жене сцен. Он просто молча переживал, ревнуя ее ко всем подряд, но в душе радуясь, что мужем такой красивой женщины все же является он, а не кто-то другой. И что только ему позволено видеть ее во всех домашних положениях, в неприбранном и неодетом виде, купающуюся в ванне, укладывающую свои красивые каштановые волосы перед зеркалом или мирно спящую на супружеском ложе.
Теперь, когда ее не было, он никак не мог приспособиться к новой для себя роли вдовца. Он не знал, как живут вдовцы, чем живут, в чем находят утешение. Впереди он видел лишь тупик, очень напоминавший стоявшую в углу подъезда крышку гроба. Того самого гроба, в котором хоронили Эмму.
У него не было знакомых вдовцов, с которыми можно было бы поговорить по душам, а потому сама жизнь подсказала ему способ, как не сойти с ума от боли и одиночества: он стал играть сам с собой в игры. Разные игры. Но все они были связаны с присутствием Эммы. То он пытался поговорить с ней, лежа в постели. То пил с ней чай или коньяк на кухне и вел себя так, словно она и на самом деле была жива. А один раз он даже потанцевал с женой, кружась с ней по комнате и придерживая ее за талию. И ему, как ни странно, становилось легче. Что омрачало его жизнь, так это походы на кладбище и визиты сестры Эммы, Анны Майер. Он всегда недолюбливал Анну, считая, что та постоянно настраивает Эмму против него. У него не было никаких доказательств, просто он интуитивно чувствовал это. Он чувствовал, что Анна презирает его за слабохарактерность, за то, что он, по ее мнению, не достоин Эммы, за то, что не в состоянии содержать жену и она вынуждена работать. Алексей действительно не много зарабатывал, хотя и считался директором небольшого мебельного магазина. Но директор – не хозяин. У него был стабильный, но небольшой заработок, которого едва хватало на еду. Что же касается остального, то на это зарабатывала Эмма: одежда, квартирные счета, книги, телефон… Он не мог позволить себе купить жене хорошую шубу, дорогие духи. Но она как-то сама умудрялась подрабатывать и содержать себя достойно. И даже ее искусственная норковая шуба выглядела совсем как натуральная. Так же богато смотрелись и ее фальшивые бриллианты. Быть может, это происходило от того, что на женщине с такой породистой, неординарной внешностью все должно было смотреться дорого.
У Эммы были большие карие глаза с тяжелыми веками, аккуратный маленький нос, слегка припухлые, словно от поцелуев тысяч мужчин, розовые губы. Она была миниатюрна, стройна. Ее кожа, бледная и тонкая, казалась прозрачной, как у младенца. Грудь ее отличалась от груди остальных женщин, которых видел Алексей. Она была не округла, а представляла собой небольшие, налитые соком конусы с размытыми розовыми же сосками. А ее стройные ноги… Он готов был целовать каждый ее пальчик…
В передней раздался звонок. Алексей вздрогнул. Кто бы это мог быть? Ну, конечно, Анна! Вечно приходит, травит душу своими разговорами, задает дурацкие вопросы.
– Привет. – Она вошла, погладила по-матерински нежно щеку Алексея. – Пьешь?
– Вот, немного коньяку…
– И мне налей. Я принесла еды, перекуси, а то и сам скоро протянешь ноги…
Сначала он думал, что она влюблена в него и ходит к нему, чтобы постепенно обосноваться в его жизни и занять место умершей сестры. Но потом, когда он, напившись, несколько раз попытался довольно-таки грубо завалить ее в постель, а она отвесила ему оплеух, понял, что ошибался. Видимо, и она играла сама с собой в подобные его играм свои игры, связанные с иллюзией того, что Эмма жива. Ей, видимо, как и ему, становилось легче, когда она переступала порог их квартиры, где еще витал дух Эммы. Ведь на вешалке все еще висели ее куртки и плащи, в ванной – купальный халат, в спальне на комоде стояли ее духи и шкатулка с драгоценностями.
– Послушай, Аня, ты бы забрала ее побрякушки. Что проку от них теперь, когда ее нет? А так поносишь, да и память останется…
– Ничего мне не надо. Пусть все лежит на месте. Может, пройдет время, и я смогу проще отнестись к тому, что ты сказал, но только не теперь… Ну что, пойдем поужинаем? Да, чуть не забыла, в вашем почтовом ящике – он вечно распахнут и набит всяким мусором, черт бы побрал этих малолетних бандитов! – нашла вот это. – И она протянула ему извещение на ценную посылку.
Алексей покрутил его в руках и, пожав плечами, сунул в карман.
– Понятия не имею, что бы это значило. Ценная посылка, настолько ценная, что ее оценили в десять рублей. Должно быть, какие-то книги или рекламные дела, – сказал он первое, что пришло в голову.
– Причем на твое имя, – заметила Анна уже в кухне, доставая из сумки принесенные ею баночки с салатами, промасленный пакет с курицей гриль. – Хлеб-то в этом доме найдется?
– Найдется… Слушай, а который сейчас час? Как ты думаешь, почта еще открыта?
– Что, любопытство одолело? Открыта, открыта. Беги за посылкой, а я пока чай заварю, все подогрею…
Он ушел и вернулся буквально через четверть часа. В руках его был довольно большой ящик из фанеры, запечатанный по всем почтовым правилам – с бечевками, похожими на растопленный шоколад печатями из сургуча…
– Такая большая и стоит всего десять рублей? – усмехнулась Анна, доставая ножницы и протягивая Алексею.
– Думаю, что кто-то просто решил сэкономить и оценил посылку по минимуму, чтобы не платить лишнее. Хотя ящик удивительно легкий, как пушинка…
Он разрезал бечевку, принес из кладовой инструменты и вскрыл ящик.
– Какая-то солома… – Он порылся в ней и извлек что-то зеленое, какую-то ткань.
Они оба замерли. И Анна, и Алексей.
– Нет… – прошептала Анна и закрыла ладонью рот. – Этого не может быть.
Бледный как мел Алексей достал из ящика женское платье из зеленой шерстяной материи джерси.
– Это ее платье, Алексей… Я бы узнала его из миллиона платьев. И эти серебряные пуговицы… Что все это значит? Кто мог прислать тебе это платье?
Она пришла в себя первая и, схватив ящик, принялась осматривать его в поисках обратного адреса. В это время Алексей нашел в кармане платья Эммы записку, написанную печатными буквами: «Алексей, привет! Буду через полчаса, пожалуйста, разогрей курицу и сделай салат. Майонез в ведерке в холодильнике под окном. Целую, Эмма».