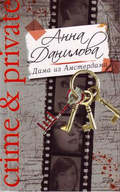Анна Данилова
Пора черешен. Научи меня играть, жить, любить…
© Анна Данилова, 2017
ISBN 978-5-4483-8403-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1
Декабрь 1997 г.
Это был ночной частный ресторан, а потому можно было не переживать, что их здесь кто-нибудь увидит. Рука Ильи Николаевича скользила по коленям Лены, и пальцы его разве что не играли, как на клавишах рояля, прикасаясь к ставшей много чувствительнее за последние полчаса коже…
За маленьким полукруглым оконцем завывал злобный декабрьский ветер. Вьюга грозила разбить залепленные снегом стекла и ворваться в этот душный, почти горячий мирок, наполненный запахом жареной гусятины, легкого сигаретного дымка и дешевых цветочных духов.
Вседозволенность и порок – так Лена называла про себя то, что составляло теперь ее жизнь, рождая непонятные и смутные чувства, так много напутавшие в ее еще неокрепшем сознании. Она сидела, выпрямившись на стуле, и взгляд ее, затуманенный вином, блуждал от одного столика к другому: она рассматривала сидящих посетителей и хотела понять, все ли, забредшие сюда, в этот ночной ресторан, ведут такой же вольный и опасный образ жизни, как она. Она сравнивала себя с красиво одетыми и смеющимися девушками, усердно поедающими горячую еду и не выпускающими из рук бокала или рюмки, пытаясь представить скрытую за праздничной внешней и яркой оболочкой их настоящую жизнь с буднями и бытом. Кто эти девушки? И кем они приходятся тем мужчинам, обнимающим их за талию или усаживающим к себе на колени? Женами? Любовницами?
Она все время молчала, не в силах сосредоточиться на вяло текущем и, в общем-то, дежурном разговоре двух, слегка подвыпивших людей, забредших сюда в поисках тепла и уединения.
…Илья Николаевич Тарасов вот уже четыре месяца являлся ее официальным преподавателем специальности, то есть фортепиано, в музыкальном училище. Человек новый, он сразу же обратил на себя внимание своей яркой внешностью: при ярко-голубых глазах и почти белых волосах у него были черные густые брови и усы. Высокий, стройный, он казался потерявшимся на просторах российской глубинки хрестоматийным принцем из сказок братьев Гримм. И это было лишь первое впечатление. Когда же на вечере посвящения в студенты Тарасов сел за рояль и заиграл Шопена, все поняли, что он – гений. И это, еще не зная толком, кто он и откуда. И только лишь позже стало известно, что он приехал в П. из Москвы, где преподавал в училище Гнесиных…
Он сразу стал звездой, до которой все хотели если не дотронуться, то хотя бы насмотреться досыта, до головокружения…
Знали также, что он женат и у него есть маленькая дочь. Тарасову было около сорока, но выглядел он на двадцать пять.
Лена, увидев его впервые вблизи, на первом занятии по специальности, забыла даже, как ее зовут, настолько сильное впечатление произвел на нее новый преподаватель. И это было неудивительно – ведь летом ей, неискушенной, исполнилось всего восемнадцать. Она была девственницей, хорошо и легко училась, хотя смутно представляла себе, зачем ей все это надо и правильно ли она вообще сделала, что занялась всерьез музыкой. Хотя, с другой стороны, она не представляла себя никем другим, кроме, как пианисткой или, на худой конец, преподавателем фортепиано в музыкальной школе. Быть может, она бы так и жила, пребывая в сонной и скучной своей положительной бессмысленности, называемой жизнью, если бы не Тарасов. Лишь встретив его, она поняла, что вся ее прежняя жизнь была, оказывается, лишь подготовкой к встрече с Ильей Николаевичем. И теперь, когда она видела его почти каждый день, в женской ее оболочке – напрочь вытеснив все мозги с привычными и ленивыми мыслями ни о чем – расцвел пышный розовый куст любви, аромат которого кружил голову, дурманил, делал ватным тело и даже как-то повлиял на ее речь… Да, она стала заикаться при виде своего обожаемого Ильи Николаевича и поняла, что потихоньку сходит с ума. Она думала только о нем, ей нравилось произносить вслух его имя и фамилию, она до сильнейшего возбуждения рисовала себе, наконец, сцены свидания с ним… И только железная воля (причем, явно избирательного характера) заставляла ее по шесть-семь часов заниматься, разучивая сложнейшую программу, подготовленную специально для нее Тарасовым… Особенно успокаивали ее этюды, когда, совершенно не придавая значения тому, ЧТО она играла, она, думая о своих внезапно вспыхнувших чувствах к Илье Николаевичу, представляла себе их следующее занятие… И не было на всем свете человека, способного как-то поколебать ход ее мыслей относительно ее кумира, ее тайного любовника, и, конечно же, переполнявших ее смутных, но острых желаний… Она смотрела на пожелтевшие клавиши старого пианино, а видела любимое лицо с печальными голубыми глазами, льняные волосы, к которым хотелось прикоснуться, и даже слышала, как ей казалось, исходивший от Тарасова характерный запах горьковатого одеколона, смешанный с запахом шерсти (он носил свободные, крупной вязки, джемпера, которые ему, вероятно, вязала его жена).
Дома, запершись в своей комнате и уже не обращая внимания на то, что к маме в очередной раз пришел ненавистный ей Капелюш (фамилия маминого друга почему-то ассоциировалась у Лены с каплями и коклюшем), который непременно съест все запасы колбасы и сыра, Лена до дурноты смотрела эротические фильмы Тинто Браса. Представляя себя на месте его раскованных и соблазнительных героинь – распаленных зрелых женщин, и еще не понимая природы своего состояния и, тем более, не зная способа выхода из этого изнуряющего водоворота чувств, она просто-таки сгорала на медленном огне пожирающей ее страсти к мужчинам вообще и воображаемому Илье Николаевичу в частности.
И тебе нравится смотреть эту гадость? – спрашивала ее мама на следующее утро, выпроводив предельно тихо Капелюша за дверь и делая вид, что она спала одна на широкой своей кровати. – Ведь кроме ТАКИХ фильмов нужно смотреть и другие…
Но Лена не могла ей ответить, что то, чем занималась ночью ее мать со своим любовником, было куда натуралистичнее, чем фантазии Браса, и что сон к ней не шел последние полчаса именно от звуков, доносящихся из маминой спальни, а вовсе не из-за «Паприки»…
– Я смотрю из любопытства, – как можно спокойнее отвечала она, пытаясь даже улыбнуться маме – пока что единственному близкому и родному ей человеку. Но она знала, чувствовала, что скоро в ее жизни что-то переменится, и на смену дочерней привязанности, доставляющее ей ощущение тепла и любви, появится совершенно новое, чувство, от которого уже сейчас дух захватывает…
Когда они с Ильей Николаевичем играли в четыре руки Моцарта (его до-мажорный концерт для фортепиано с оркестром с облегченным переложением партии оркестра), она слышала не расстроенный немецкий «Petrof», а действительно оркестр… Она вдыхала всей грудью влажный от дождя и мокрых листьев воздух (в классе было всегда распахнуто окно, и Тарасов, слушая ее игру, любовался качающимися и шумящими осенней, золотой листвой деревьями) и думала о том, что никогда еще в жизни не была так счастлива… Осень и Моцарт слились воедино, и даже клочок посиневшего от холода и близкого ноября неба казался необычайно красивым, матовым, музыкальным…
Они занимались только музыкой. Лена, внимательно следившая за всеми слухами, которые ходили по училищу, поняла, что ее пассия в высшей степени нравственна – ни одного романа, ни одного повода для сплетен, ни одного, неосторожно брошенного слова… Тарасова лишь видели несколько раз в обществе его жены – хрупкой моложавой женщины-подростка с короткой стрижкой, отдававшей предпочтение брюкам и явно из ложной скромности (таково было общее мнение) носившей лишь серебро. Уже это, как считала Лена, лишало Тарасову женственности и делало мысли о возможном романе с ее мужем менее греховными, чем в том случае, если бы его жена была более интересной и не такой пресной…
Однако, слово «роман» не подходило к тем чувствам, которые Лена вынашивала в своем сердце. Она, не знавшая физической любви, вынуждена была считать, что платонические отношения, которые связывали ее с Ильей Николаевичем сейчас, просто идеальны и не нуждаются в более глубоком развитии… Единственно, чего бы ей хотелось, так это возможности предельного уединения с Тарасовым. Она мечтала хотя бы раз остаться с ним в классе на несколько часов, чтобы иметь возможность побыть с ним подольше и поговорить не только о музыке, но и так, вообще, о жизни… Возможно, она позволит даже ему себя поцеловать. А дальше он и сам не пойдет – не может человек, живший одной музыкой и так много времени ей уделявшей, променять чистоту настоящих отношений с сексом. «Секс – какое соленое, отравляющее душу, слово».
Но первого декабря, когда снега в городе выпало столько, что дворнику вечером пришлось откапывать двери училища, а транспорт вообще встал, Лена, спустившись в гардероб, увидела поджидающего кого-то у самого выхода Тарасова. Одевшись, она хотела было пройти мимо, как он вдруг, быстро оглянувшись и убедившись, что их никто не видит, незаметно сунул ей в руку записку. И тотчас, развернувшись, почти бегом кинулся к лестнице, ведущей на второй этаж. Было семь часов вечера – училище опустело, запертые классы притихли и стали непохожи сами на себя. Сомкнув широкие лаковые деревянные губы и спрятав белые и желтые зубы-клавиши, задремали пианино и рояли. Гардеробщица что-то вязала у себя в уголке, рядом с ней стояла электрическая плитка, на которой разогревался гороховый суп, аромат которого слегка оживлял училищные горьковатые от мастики и обилия сухого дерева запахи…
Лена с бьющимся сердцем развернула записку и прочла: «Класс 202». Это был класс духовиков, там занимались трубачи, саксофонисты, флейтисты…
Он находился на втором этаже, в самом конце, под лестницей, ведущей на чердак.
Лена как была в пальто и меховом капоре поднялась по лестнице и остановилась в нерешительности перед дверью с потускневшей табличкой «202».
– Входи, – вдруг распахнулась дверь, и Илья Николаевич почти втащил Лену в класс. – Раздевайся…
Он стоял перед ней во всем черном, что так шло к нему, а в чистых и блестящих светлых волосах его играли блики от электрических ламп. Глаза его блестели, тяжелые веки делали взгляд насмешливым, сонным и, вместе с тем, внимательным…
Он обнял ее, и Лена от неожиданности и обрушившихся на нее чувств, едва не потеряла сознание… Он не целовал ее, а только обнимал, прижимая к себе и пытаясь руками охватить всю ее целиком вместе с расстегнутым теплым пальто, съехавшим с ее головы норковым капором и ставшими почти живыми и смешными в своей подвижности короткой юбкой и душным свитером…
– Что вы делаете? – прошептала Лена, не размыкая глаз, понимая, что все, что с ней сейчас происходит, лишь очередная фантазия, что такого не бывает, что она наверняка сейчас едет в переполненном автобусе и дремлет, наслаждаясь этим дивным и наверняка коротким сном.
– Я люблю тебя, Леночка, я просто с ума схожу, когда вижу тебя…
Голос у него был совсем не такой, когда они с ней вместе накануне разбирали бетховенскую сонату и обсуждали, какой лучше выбрать темп. Он говорил низким бархатистым голосом, который лишал ее последних сил…
…Она открыла глаза и поняла, что лежит на столе; в классе совсем темно, и она уже не может видеть склоненного над ней мужчину. Она видит лишь свои согнутые колени, голубоватые от света уличного фонаря, яркого и бесстыдного, подглядывающего за ними и растущего откуда-то снизу, из заснеженного тротуара, и еще мерцающую копну взъерошенных волос Ильи Николаевича… Чувствует его ласки, огненные губы, касающиеся живого электричества тела… Или… она зажмурилась, пытаясь понять, что же происходит: она – раскрытый цветок, раскинувший лепестки и выставивший солнцу и пролетающим пчелам свою богатую нектаром сладкую середину. Было жарко, хорошо и жарко, и она застонала, и тотчас, испугавшись звука, сомкнула колени и села, обхватив себя за плечи. Щеки ее пылали, она не знала, как ей вести себя дальше. А Тарасов между тем что-то говорил ей, брал ее за руку и тянул куда-то…
– Ты не должна меня бояться… Ведь я теперь С ТОБОЙ… И тебе надо привыкнуть ко мне, к моему телу… Это – любовь… Иди же ко мне, не бойся… Я тебе расскажу, как это делается…
***
В ту ночь она возвратилась домой около полуночи. Мама, выйдя из спальни и запахивая на ходу халат, казалась сонной и вместе с тем какой-то смешной… Она извиняющимся тоном пробормотала, что жареной курицы уже нет: «Леночка, ты поужинай бутербродами с лососиной и холодным омлетом, я сейчас налью тебе чаю…» Она даже не поинтересовалась, который час и почему ее дочь пришла так поздно. И лишь, когда спустя несколько минут Лена услышала шлепающие шаги в прихожей, поняла, что это Капелюш пошел в туалет… Значит, он опять он здесь. (вставка)
Когда же в квартире все стихло, она на цыпочках вошла в ванную комнату, пустила горячую воду и долго рассматривала себя в зеркало, прежде чем раздеться… Ей почему-то хотелось плакать. Она не знала, как ей жить дальше, не знала, как будет себя вести завтра утром на занятии после всего того, что произошло между ней и Ильей Николаевичем. Но самое главное, что так мучало ее, был вопрос: чем они вообще занимались? И был ли с ней Тарасов или совсем другой мужчина, пытающийся перевоспитать ее и добиться того, чтобы она воспринимала хотя бы человеческую наготу как нечто, само собой разумеещееся? Он демонстрировал ей свое тело и требовал от нее того же, мягко, но вместе с тем настойчиво, как старший, как много больше знающий и понимающий в любви… Да, он так и говорил «в любви»…
Лена и сама знала, что задержалась в своем развитии, что она, пожалуй, единственная девственница если не в училище, то на их курсе уж точно… У всех ее подруг были возлюбленные, которые, кто посостоятельнее, снимали квартирки или комнатки в центре для своих встреч, а то и устраивали интимные встречи прямо в классах, как и они сегодня с Тарасовым… Но разве то, чем они занимались, можно назвать любовью? Это какой-то «ликбез»…
Он прервал свои ласки и «учения» в самый неподходящий момент, когда Лена почувствовала, что у нее остановилось сердце, а все тело превратилось в какой-то сочный и невероятно приторный и душистый плод, готовый вот-вот лопнуть от спелости… И ей ничего не оставалось, как одеться и уйти. Видела ли она его лицо в тот момент, когда уже повязав под подбородкой шелковую ленту капора, она накинула пальто и собиралась уже выйти из класса?… Видела – оно было преисполнено покоя и счастья… Он смотрел на нее глазами благодарного учителя, которого и на этот раз не подвела любимая ученица. Вот только Лена не могла смотреть на него долго, потому что в классе вот уже с полчаса как горел свет (шторы предусмотрительный Илья Николаевич успел задвинуть так плотно, как это вообще возможно), а сам он сидел на расшатанном кресле голый, белый, с опущенными плечами… Лена с трудом поняла, отчего это на него накатило такое блаженство, что он даже поцеловал ей руки на прощанье.
– Ты не представляешь себе, до чего нежна твоя кожа, она пахнет медом, лесом, травами, молоком… Ты чиста, как только что народившийся цветок… Подойди ко мне… Ты уже не боишься меня? Смотри, что делается, а?
И ей снова пришлось опуститься перед ним на колени…
А потом он сам надел на ее голову капор и спросил, почему она носит такой странный головной убор и разве модны ли сегодня капоры?
– В прошлом году они только начали входить в моду, а сейчас их носят все, просто вы не замечали…
– Моя жена носит меховой берет… – проговорил он
задумчиво. – Извини, я не должен был вообще говорить о
ней…
Он поцеловал ее в щеку и подождав, пока она снова оденется, легонько подтолкнул ее к двери:
– Ну, иди-иди, спокойной ночи…
Он даже не проводил ее, и она восприняла это как меру предосторожности. Хорошо, что у нее были деньги на такси – она с великими трудностями добралась оп заснеженным улицам до дому.
И теперь лежала распаренная в постели, металась по ней и слезы душили ее непонятные…
А утром к ней зашла мама и сказала, что Капелюш будет теперь жить с ними. Что он порядочный человек, хорошо зарабатывает, что с ним им будет жить легче, спокойнее и что, возможно, они даже купят большую квартиру.
Мама Лены была еще молодая женщина, с прекрасной фигурой, хорошим цветом лица и большими прозрачными зелеными глазами, которые унаследовала и дочь. И волосы у обеих были теплого, медного оттенка, и были густыми, шелковистыми. Но если мама – Наталия Быховская – знала цену своей красоте и пользовалась ею постоянно, на протяжении многих лет для достижения своих самых невероятных целей (как то: удачное замужество, поправление своих материальных
дел, приобретение в вечное пользование преданных и талантливых любовников, каких у нее всегда было в избытке, или возможность побездельничать и пожить в свое удовольствие, забыв навсегда слово «работа»), то Лена в силу своего инфантилизма и серьезного увлечения музыкой, считала свою внешность посредственной и была уверена, что главным в ее жизни являются занятия музыкой, изнуряющие упражнения, доводящие до совершенства ее технику и мастерство, как пианистки.
Но так было все до первого декабря. После слов, произнесенных Ильей Николаевичем, когда он увидел ее обнаженную, Лена уже не могла оставаться прежней. Проснувшись в шесть утра, она первым делом принялась рассматривать себя в сером свете зимнего хмурого утра, поеживаясь от холода и усмехаясь затвердевшим соскам и покрытой гусиной кожей груди… Ей не верилось, что ее мечта сбылась, и что теперь их – ее и Тарасова – связывает тайна. Тайна ночного свидания. Теперь для нее начнется совершенно другая жизнь, полная любовных переживаний, совсем как у взрослой женщины, как, быть может, в молодости у мамы… Хотя по-настоящему женщиной она не стала. В физиологическом плане. Илья Николаевич сказал, что им некуда торопиться, что к ЭТОМУ надо подходить с особой щепетильностью и расставание с девственностью должно превратиться в праздник. Значит, начиная с сегодняшнего дня, она будет медленно входить в новое состояние, превращаясь в женщину?
– Ты меня слышишь?
Лена очнулась. Она стояла в ванной и грела руки в горячей воде, пока не поняла, что в дверь стучат. Конечно, Копелюшу не терпится умыться-побриться? Что ж, мама имеет право на личную жизнь, да и сколько им можно прятаться?
Она открыла дверь и увидела закутанного в черный махровый халат Капелюша – высокого, с копной черных с проседью, волос и огромными, кофейного оттенка, глазами навыкате мужчину. Он подмигнул ей и сркылся в ванной.
– Доброе утро, – донеслось до Лены.
«Доброе утро,» – ответила она ему про себя и вернулась в комнату.
– Ты будешь оладьи с повидлом или яичницу? – спросила, заглянув к ней в спальню мама, и лицо ее, когда она это говорила, вдруг показалось Лене таким милым и добрым, что ей захотела прямо сейчас рассказать ей о своей любви к Илье Николаевичу, но за спиной матери вдруг возникла высокая фигура Капелюша, и они оба, хохоча, убежали в кухню. «Как молодые», – почему-то с раздражением, ревностно подумала Лена. Маме теперь будет не до нее, как впрочем, и Лене не до Капелюша и их предстоящей свадьбы. Мама сказала, что ей должны привезти из Эмиратов белое платье из муслина.
За завтраком они впервые в жизни сидели ВТРОЕМ. Обычно мама выпроваживала своих любовников рано утром, чтобы не травмировать свою повзрослевшую дочь визитами часто меняющихся мужчин. Но Капелюш, по-видимому, превзошел всех бывших поклонников маминой красоты и ума по всем показателям. Она остановила свой выбор на нем. Почему?
– Твоя мама вкусно готовит, – сказал он, ловко сворачивая оладий на вилку и макая его в яблочное повидло, – а ты умеешь готовить? Ты молчишь? Не хочешь со мной разговаривать?
Лена зачем-то представила Капелюша голым. Наверно, он волосатый, подумала она, наблюдая за тем, как высовываются при каждом движении его руки из широких рукавов халата, открывая взгляду запястья, густо заросшие черной шелковистой блестящей шерстью, как у животного. «У него, наверно, и грудь волосатая, и спина, и ноги…»
– Если ты не знаешь, как меня называть, я тебе подскажу: Борис. Вообще-то я Борис Михайлович, но для тебя просто Борис. И будь уверена, мы с тобой подружимся. Я умею ладить с людьми, даже с такими дикарками, как ты. Ты ешь и не обращай на меня никакого внимания.
Мама, тихонько вздохнув, опустила свое лицо на ладони, уперев локти о стол, и прикрыла в каком-то немыслимом блаженстве глаза. «Совсем как Тарасов вчера ночью…» Лена вдруг подумала, что ощущение счастья, которое вчера появившись неожиданно, длилось всего лишь несколько первых минут ее свидания, будет обязательно отравлено в случае, если на него будет отпущено больше минут, а то и часов… Счастье оно тем и хорошо, что длится мгновение. Ведь то, что проделывал с ней потом Илья Николаевич было странным и уж никак не могло зваться любовью, как бы не убеждал ее в этом ее возлюбленный. Или это она в силу своей неопытности никак не может перестроить свое сознание? Ведь смотрит же она фильмы, видит, как это происходит между другими, тогда почему же ей так тяжело выполнить просьбу человека, которого она любит?
– Меня немного тошнит, – сказала Лена, не подумав, какой смысл может придать ее словам пока еще мало знающий ее Борис.
– Тошнит? Может у тебя… – предположила мама, но Лена отрицательно замотала головой. – Нет, это не то, еще рано…
Разве могла она признаться, что ее тошнит от воспоминаний? Что она словно слышит запахи, которыми сопровождались их сумбурные и странные ласки?
Она посмотрела на свои руки и тут же, представив, что они такие же, какими были вчера, спрятала их даже за спину.
– Да что с тобой? – очнулась мама, которая выйдя из своего приятного оцепенения, теперь внимательно смотрела на дочь, пытаясь понять причину столь странного поведения. Ей в голову пришла мысль, что Лена презирает ее за то, что они делали вчера в гостинной после того, как закончился футбольный матч, ведь она запросто могла, подойдя к двери, увидеть лежаших на полу маму и Бориса… – Ты хорошо спала?
– Да, я хорошо спала. У меня все в порядке. А тошнота, это так, от голода, наверное… Или вчера в столовой съела несвежую котлету… У нас ведь как – останутся котлеты, их разогревают на следующий день, а то и через день…
– Мрак! – гаркнул Борис и взял еще один оладий. – Ты лучше приходи домой, потратишь время, зато сохранишь здоровье…
Он как-то хорошо это сказал, и голос его прозвучал так, словно звучал здесь долгие годы… Лена улыбнулась ему.
– Спасибо за завтрак, – прошептала она растроганно и вышла из-за стола. – Знаете, я даже рада, что у вас все хорошо…
Сказала и густо покраснела, почти выбежала из кухни.
***
Она опоздала на занятие. Тарасов встретил ее нежным поцелуем, и она сразу успокоилась, потому что все сто двадцать минут, пока она добиралась до училища, переживала о том, что он будет себя вести так, словно ничего не произошло.
– Как настроение? – спосил он, усаживая ее за фортепиано и целуя в затылок и прижимая ее к себе, стоящему сзади нее.
– Не знаю… Я принесла Прокофьева, могу показать Баха, вот
только в третьей части мне неудобно брать пассаж в басах…
– Это сложный кусок, потренируешься и все получится…
На нем был белый свитер с высоким воротником. Он был зимний, сладко пахнущий мужскими духами и морозом. Из распахнутой большой форточки же рвался в прогретый за ночь класс пахнущий арбузами прохладный воздух. Полы в это утро показались Лене особенно чистыми и начищенными мастикой, как никогда. нигде не было ни пылинки, и солнце играло на лаковой поверхности инструмента, на нотных страницах, на клавишах, на розовых гладких стенах…
Илья Николаевич сел за соседний инструмент и сосредоточенно слушал игру Лены.
Занятие прошло как обычно. Не было сделано и намека на следующее свидание. И только в конце дня, когда Лена спускалась по лестнице к гардеробу, уставшая от трудного диктанта по сольфеджио и в уме еще продолжая анализировать услышанное, чтобы определить, правильно она записала услышанную терцию или нет, она увидела поджидающего (быть может, ЕЕ) Тарасова. Он делал вид (а, может, и нет), что изучает расписание на доске объявлений. И снова, как и вчера, в холле никого, кроме них не было. Как нарочно.
– Моя машина за углом, поужинаешь со мной?
Синий скромный «опель» она увидела с трудом, потому что вся улица была заставлена заснеженными машинами, походившими одна на другую… Постояв минутку на крыльце и дождавшись, пока в машину не сядет Илья Николаевич, Лена перебежала улицу и села в машину за ним следом. И рядом с ним.
– А вы не боитесь, что нас кто-нибудь увидит?
– Нет, мне нечего бояться… Я люблю тебя, а не ворую…
– А если кто-нибудь увидит и расскажет вашей жене? – Ей и самой было неприятно говорить об этом. «Как в дешевой мелодраме.»
– Мы с женой чужие люди. Так что не бери в голову… – Он повернулся к ней и в каком-то искреннем и естественном порыве положил ей свою голову на грудь, шумно вздохнул. – Бедная ты моя девочка…
– Почему… бедная? – спросила она шепотом, изнемогая от нежности к этому такому взрослому и в то же время по-мальчишески живому мужчине, еще способному испытывать столь сильные чувства. Ей казалось невероятным, что она, студентка-второкурсница, сидит в машине своего любимого учителя, человека, которым восхищается все училище и которого боготворят все студентки и преподавательницы, и что он сейчас повезет ее куда-то ужинать! Ее, обычную девчонку, которая играет посредственно, одевается – проще некуда (если не считать, конечно, роскошного норкового капора), да к тому же еще и совершенно неопытную ученицу, с которой ему, наверно, так скучно, что приходится искать какие-то приемлимые способы для удолетворения…
– Это я так… Ведь ты еще так молода! Твои родители не будут волноваться, если ты задержишься сегодня так же, как и вчера?
Она смотрела на его профиль, на его руки, держащие руль, и никак не могла себя заставиь поверить в реальность происходящего.
– Извините, я задумалась… Нет, они не будут волноваться, потому что они… уехали… в гости и сами вернуться не скоро…
Она почти не врала, потому что ее «родители» были теперь как новобрачные и использовали, как казалось Лене, каждую минуту, чтобы побыть вдвоем. Так зачем же им мешать?
– Смотри… Как у тебя дела? Говорят, вам сегодня достался сложный диктант…
– Мне кажется, что я написала все правильно… Не понимаю, зачем вообще устраивают эти конкурсы, отборы… По мне так сольфеджио вообще никому не нужно. разве что в музыкальной школе.
Машина плавно зптормозила на темной улице. Илья долго целовал ее в темноте, покусывая губы и язык, а потом сказал, что сильно ней соскучился и не может больше сдерживать свои чувства.
Спустя четверть часа Лена была готова отдаться ему прямо в машине, вот только не знала, как это делается. Она сидела в расстегнутом пальто и чувствовала, что произошло что-то нехорошее. Кто-то дерзкий и злой, кто сидел внутри ее тела, требовал либо крови, либо мяса. И имя этому состоянию она знала теперь отлично. Это было возбуждение, которое до встречи с Ильей было смутным и неосознанным, а теперь сжигало ее изнутри…
– Зови меня Ильей, хорошо? – Он нежно привлек ее к себе и погладил по голове, по растрепанным волосам. – Какие у тебя красивые волосы… Ты похожа на молоденькую кошечку, рыженькую, с зелеными глазами, пушистую и гибкую… Скажи, ты любишь меня?
Но она молчала, потому что слово, которое он ждал, было слишком легковесным для определения того дикого желания, которое он в ней вызывал. И это было трудно назвать любовью. Это была болезнь с жаром, потерей сознания (не обмороком, а именно потерей сознания, ума или того, что его заменяет) и каких-то конкретных желаний…
– Илья Николаевич… – она собарлась с духом, чтобы задать ему волнующий ее вопрос.
– Говорю же, зови меня просто – Илья.
– Хорошо, Илья… – она подивилась сама, что произнесла это с легкостью. – Скажи, зачем ты все это делаешь? Зачем мучаешь меня?
– Ты же девственница, с тобой по-другому нельзя… Если хочешь, я дам тебе литературу, почитаешь и поймешь, что мы с тобой молодцы и все делаем правильно. Ты должна постепенно привыкать к взрослой жизни, которая теперь будет состоять не только из музыки, но и из меня, из отношений, какие бывают между мужчиной и женщиной. Ты чувственная и очень нежная девушка, ты возбуждаешь меня невероятно, я просто теряю с тобой голову… Ты ведь выйдешь за меня замуж?
Она промолчала, подумав о том, что сходит с ума. Нет, так не бывает. Или бывает, но только в романах, в кино…
– У вас же дочь…
– У меня ПОКА нет детей… Это девочка Клары, моей бывшей жены…
– Вы что, развелись с ней?
– Официально – нет, но мы не ижвем с ней, как муж с женой. У нее давно уже есть другой мужчина.
– И вы терпите?
– Зови меня на «ты», так нам будет проще привыкнуть друг к
другу… Знаешь, а ты очень способная, это я уже о музыке.
Ты когда играешь, мне кажется, и не задумываешься над тем,
что написано в нотах, ты ее чувствуешь…
И тут случилось то, что должно было случиться. Она слишком быстро вернулась в реальность и совсем некстати вспомнила про своих учеников – двух мальчиков, которым она по средам давала уроки фортепиано. Они, наверно, уже заждались в клубе, где ей было разрешено заниматься за небольшую арендную плату.
– Что- нибудь случилось, что это ты так резко замолчала?
– Я вспомнила, что у меня сегодня были дела… Ученики…
– Я могу отвезти тебя, куда только скажешь… Хотя мы уже приехали…
Лена молча смотрела в окно. Они приехали почти на окраину города. Прямо перед ними стоял светящийся оранжевыми окнами двухэтажный особняк.
– Это ресторан, но его мало кто знает… Публика здесь постоянная, а хозяин – брат моего московского приятеля… Так что, выбирай – ученики или жареный гусь! Я шучу, не расстраивайся, завтра позвонишь и объяснишь, придумаешь что-нибудь… В жизни всякое бывает. Кроме того, сколько они тебе платят?
– Десять тысяч рублей за урок.
– Да ты с ума сошла! Ты же моя ученица! Меньше пятидесяти даже и не думай…
Так, разговаривая, они взошли на заметенное снегом крыльцо, Илья позвонил и спустя несколько минут их впустили в жаркое и душное помещение, тесное, но заставленное кадками с настоящими пальцами и красными бархатными креслами. Мужчина в черном костюме, увидев Илью, поздоровался с ним и, улыбнувшись, сказал, что столик уже накрыт и что если угодно, то гуся подадут прямо сейчас.
Очевидно, раньше весь первый этаж занимала квартира, потому что зал ресторана напоминал обычную гостинную, разве что чуть попростронее обычной «сталинки». С десяток столиков, накрытых белыми скатертями, на столиках лампы с красными шелковыми абажурами, посетители, в основном, мужчины, много курят, разговаривают громко пьяными голосами, а фоном всему этому служит тихая и ненавязчивая джазовая музыка «а, ля Амстронг».