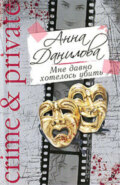Анна Данилова
Убийство в соль минор
– Соглашайся, – мама, слышавшая наш разговор, чуть не плача, кивнула. – А что делать, сынок?
Так я попал в ресторан, потом по рекомендации все того же Сашки стал выступать в одном ночном баре, зарабатывал живые, легкие деньги, наигрывал джаз. Кто знает, как бы сложилась наша дальнейшая жизнь, если бы меня не пригласили выступить перед одним немецким пианистом, большим другом моего преподавателя, который посоветовал учить программу для конкурса пианистов в Дрездене. Не в Варшаве, куда я готовился, а именно в Дрездене. После этой дрезденской победы с легкой руки предприимчивого агента Отто Круля и началась моя карьера пианиста, мои гастроли.
Где сейчас Круль?..
Я вспомнил его появление в клинике, куда меня положили после катастрофы, его перекосившееся от ужаса и отвращения лицо, когда он увидел мои раны. Тогда я твердо понял, что такое человеческая подлость – он даже не поговорил со мной, выбежал из палаты, словно у меня проказа. С тех пор я его не видел. Между тем он задолжал мне немалую сумму, которая ох как пригодилась бы мне во время лечения. Нет, конечно, маме бы она не помогла, этого все равно было слишком мало.
– Можно я тебя спрошу? – вдруг услышал я, и Круль вместе с цветными видами летнего Дрездена и размазанными по голубому небу глиссандо черно-белых клавиш растаял в солнечном свете.
…Я сидел с еще теплым блином на тарелке, передо мной стояла вазочка с медом. Валентина села напротив меня, подперла кулачками щеки.
– А куда ты так мчался на своей машине? Когда все это случилось?
Конечно, она имела право знать. Глупо, очень глупо, но поездка была такой незначительной, что одно воспоминание о ней наводило на мысль о том, как все же нелепы смерть и жизнь, как все вокруг несправедливо устроено.
– Представляешь, я вез маму к ее подруге, которая испекла ее любимый пирог со сливами.
– Да ладно! – воскликнула она, и тонкие брови ее взлетели. – Как глупо, правда? Если бы не этот пирог, твоя мама была бы жива. И с тобой ничего бы не случилось. Да уж.
И все-таки я чувствовал в воздухе какую-то особую, чуть ли не праздничную напряженность. Она была во взглядах Валентины, которые она украдкой бросала на меня всю первую половину дня, проходя мимо то с книжкой, то с ноутбуком. В особой, немного звериной, хотя и нежной ухмылке Еремы.
– Ерема, ты вскопал ту маленькую клумбу, о которой я тебе говорила вчера вечером?
– Да, Соль.
Мне послышалось или этот верзила с длинными волосами, которые он то и дело поправлял огромными ручищами, называл свою госпожу – иначе и не скажешь – солью?
Быть может, у нее было прозвище такое – Соль. Мне, музыканту, хотелось верить, что соль – это не соль соленая, а нота, чудесная нота «соль». Наверное, за этим ее прозвищем стоит какой-то случай, связанный с музыкой. Фантазировать на эту тему можно было бесконечно.
Я бы мог, конечно, вообще не обращать внимания на то, как Ерема обращается к Валентине, если бы не чувствовал, что каждый раз, когда он называет ее так, он потом тяжело вздыхает, а когда думает, что я его не вижу, морщится и машет руками, как человек, досадующий на самого себя за то, что снова проговорился, выдал какую-то тайну.
Устав от отдыха, я вышел на крыльцо и увидел Валентину в кресле за круглым столиком. Перед ней были рассыпаны разноцветные пакетики. Я нерешительно подошел к ней, ловя себя не неприятной мысли о своей крепкой зависимости от этой женщины. Я на самом деле еще не знал тогда, как мне себя с ней вести, о чем говорить, в какой тональности строить отношения. Быть ли самим собой или воздержаться от эмоций и свободных тем. Все равно все это пока невозможно – я еще слишком подавлен всем пережитым.
Бросив взгляд на приоткрытые ворота, за которыми простирался густой лес, я вдруг представил, что я сбежал из этого рая с теплым домом, чистыми простынями и вкусной едой. Куда бы я убежал? Без денег… Нет, деньги-то я мог бы позаимствовать у Валентины, я подсмотрел, куда она, возвращаясь из Москвы, ставит сумочку с кошельком. Сумочка лежит прямо в холле – бери не хочу. Но мой побег так и остался навсегда лишь в моих болезненных мечтаниях. Думаю, я просто был тогда еще очень слаб.
– Душистый горошек, – говорит она, щурясь от солнца, дробящиеся лучи которого мозаикой лежат на каменных плитках. – Хочу посадить много душистого горошка, чтобы потом из него составлять букеты. Они получаются особенно нежными.
Горошек. Занятно. Значит, она все-таки собирается остаться здесь, в Подмосковье. Совершенно сбитый с толку, я роняю:
– Мне бы заняться чем-нибудь.
– Сейчас. – Улыбка освещает ее ставшее счастливым лицо, глаза сияют. – Подожди немного.
Она разгребает пакетики с семенами душистого горошка (на них написано «латирус»), берет в руки телефон, смотрит на дисплей. Чуть склонив голову, бросает на меня испытующий, загадочный взгляд. Что она задумала?
– Скажи – когда ты продавал квартиру, что стало с вашими вещами?
– Продажей занималась наша соседка. Евгения Вас…
– …Васильевна Каражова, так?
– Да. И?..
– Я встречалась с ней, пока ты был в больнице. Знаешь, она хорошая женщина. Сделала все правильно. Сохранила большую часть ваших личных вещей.
Я заволновался. Честно говоря, после смерти мамы потеря квартиры и уж тем более вещей казалась мне не столь значительной. Важно, что хотя бы я оставался живой. Когда смерть обошла тебя стороной, благодаришь Бога исключительно за жизнь.
– Мебель она должна была оставить в квартире, – протянул я, не понимая, куда она клонит. – А вещи забрать к себе на хранение до моего возвращения.
– Да-да, она так и сделала. Все ваши вещи, кое-какие драгоценности, посуду, книги, словом, все то, что вам дорого, она сложила в своей кладовой. Сделала все очень аккуратно, с любовью.
Валентина полистала страницы телефонной книжки, затем коснулась пальцем экрана и замерла, словно прислушиваясь. И вдруг тишину леса нежными звуками прошили первые такты Двадцать первого концерта Моцарта для фортепиано с оркестром. Сердце мое заколотилось и поднялось к горлу, выдавливая рыдания. Это был финал из моей последней концертной программы. Звуки рояля воспарили к верхушкам елей… И я – вместе с ними.
Подошедший с ведром драгоценной лесной земли Ерема вернул меня в реальность. Заграбастав ручищей ворох пакетиков, он отошел на несколько шагов в сторону, где у него уже была разбита небольшая клумба.
– Пойду посею, – буркнул он недовольно, косясь на меня.
Валентина положила свою руку на мою:
– Пойдем, я покажу тебе кое-что. Вижу, что маешься, места себе не можешь найти. Просто хотела тебе сюрприз сделать, но что-то он задерживается.
Она махнула мне рукой, мол, пойдем за мной. Если бы она спустилась в подвал, подумал я, то я последовал бы, как крыса за дудочкой, – такую власть она уже имела надо мной.
Я был потрясен, когда в доме она действительно обошла лестницу, ведущую на второй этаж, и толкнула тяжелую металлическую дверь в подвал.
– Сюрприз? – Я чувствовал, как мой лоб покрывается испариной. Что сейчас будет? Что сделает со мной эта женщина? Сейчас заставит меня продать ей душу, расписаться кровью…
Но в подвале, где я был впервые, оказалось сухо и чисто. На желтом плиточном полу я увидел несколько больших картонных коробок. Валя подошла к первой, открыла ее, и я узнал свои ноты. Трясущимися руками я открывал одну коробку за другой – везде оказывались сложенные клавиры, партитуры, ноты, которые моя мать покупала на протяжении всей моей жизни.
– Вот здесь я подобрала все лично, – с гордостью заявила она. – Смотри, это ноты твоей последней программы: Моцарт, Равель, Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор, Шостакович, Концерт номер один для фортепиано с оркестром до минор и Концерт номер два для фортепиано с оркестром фа мажор.
Как же дико и волшебно звучали эти слова из ее уст. Эта дьяволица знала свое дело, она искушала меня моими же нотами, той сладостью, тем зудом, который вот уже долгое время будоражил меня, заставлял страдать от невозможности прикоснуться к клавишам. Я даже себе боялся признаться в том, что готов уже нарисовать клавиши!
– Сюрприз удался?
– Валентина! Что вы!
– Ты! Мы же на «ты»!
– Что ты такое задумала?
– Сегодня вечером привезут рояль. Вот! – наконец выпалила она на счастливом выдохе. – Я в них не очень-то разбираюсь, но по Интернету кое-что узнала…
– Что, что ты сказала? Рояль?
Я не понял, что со мной случилось в эту минуту, но я вдруг почувствовал, что хочу ее ударить, вот просто ударить, так, чтобы спровоцировать ее на ответный удар, чтобы я понял наконец, что все это мне не снится.
– На концертный новый я не стала тратиться, все-таки он стоит пять лимонов с лишним. Слава богу, с головой у меня пока все в порядке. А отреставрированный Блютнер, небольшой, кабинетный, мне уступили по сходной цене. Настройкой уж будешь заниматься сам – позвонишь, найдешь кого нужно. Ты доволен? Ведь это то, чего тебе так не хватало! – И не дав мне возможности выразить восторг, она продолжила: – А то я вижу, ты совсем извелся. Что, соскучился по клавишам?
Она рассмеялась, довольная своим сюрпризом, и смех ее гулко разнесся по всему подвалу.
…Сейчас, когда ее нет, когда кто-то посмел зарезать ее, как косулю или лань ножом в сердце, мне кажется, что ничего этого не было. Ни пылающего камина в подмосковном доме, ни звуков рояля, льющихся из распахнутых окон библиотеки, ни нежных цветов душистого горошка, которые Соль вырастила своими руками и потом срезала целыми охапками, расставляя букеты по всему дому.
* * *
Звонок телефона заставил меня вздрогнуть.
Я сидел в кресле. Комната погрузилась в фиолетовые сумерки.
Должно быть, это Лиза Травина. Я схватил телефон. С дисплея улыбалась моя покойница-жена.
– Ты не сердишься на меня? – услышал я ее голос и почувствовал, как волосы зашевелились на голове.
4. Соль
Иногда мои воспоминания теряют стройность, и память настойчиво возвращает меня туда, где мне совсем не место.
Как передать свои ощущения, когда ты стоишь в прохладной комнате морга и смотришь на собственное мертвое тело? Мои глаза, моя любимая родинка, моя грудь, мои бедра, даже форма моих пальцев ног – все мое и все подернуто смертельной бледностью. И так страшно.
– Вы утверждаете, что это ваша жена? – слышу я голос словно из преисподней. И мой муж Сережа отвечает вяло, словно неведомая внезапная болезнь сковала его.
– Да. Это она.
Под моей левой грудью зияет страшная, отвратительная рана. Разрез, который оставил нож. Такие ножи продают повсюду. Кто-то купил этот нож специально для того, чтобы всадить его в меня.
– Ты думаешь, это они? – спрашиваю я чуть позже, на свежем воздухе. Февральский воздух обманчиво пахнет весной, но зима еще не сдалась, и в университетском парке на ветвях густых кустов боярышника, обрамляющих мертвые цветники, еще лежит снег. Старинные корпуса университета светятся ровными рядами окон с леденцово-оранжевыми стеклами. Если бы не моя мать, если бы не ее изломанная судьба, она не бросила бы меня, а растила как нормальную здоровую девочку. И я бы окончила сначала школу, потом поступила бы, быть может, в университет, на филологический или исторический факультет. А может, отправилась бы в Москву и изу-чала искусство гомеровской Греции там и вовремя, а не сейчас, уже взрослой и пожившей женщиной.
– Ты видел? – спрашиваю я Ерему, поднимая капюшон шубы и кутаясь в нежный мех. – Нет, ты видел ее?
– Видел, – глухо отвечает мне он. После чего, расслабившись, забывшись, выдает длинное и смачное ругательство. Так он выражает недоумение, досаду и злость. Он смотрит на меня и хочет попросить прощения, но я ловлю его руку своей, обтянутой перчаткой, сжимаю ее. Ничего, я уже простила.
Вся эта сцена длится пару минут, не больше, после чего на крыльце появляется Сережа. Он бледен. Я подхожу к нему, подхватываю его под руку, и мы идем по дорожке к воротам, за которыми мы оставили машину. Все трое молчим. Да и чего сказать?
То лето было чудесным, Сережа быстро поправлялся. Думаю, главным в его восстановлении была возможность вернуться к музыке. Рояль стал для моего пианиста магнитом, настолько мощным, что он иногда забывал поесть и снова и снова играл.
Первое время в доме звучали гаммы и этюды, упражнения на растяжку пальцев. Казалось, Сережа боится играть программные произведения, не уверенный в том, что его пальцы их помнят. Но все это были лишь мои предположения. Что происходило в его душе, мне было неизвестно. В остальном, что не касалось музыки, думаю, я понимала, что волнует Сережу.
Он никогда до конца не расслабится и не станет мне доверять, если не поймет, зачем он мне нужен. Тот короткий допрос, который он устроил мне за несколько минут до того, как мой самолет поднялся в воздух, конечно, ничего ему не объяснил, лишь запутал окончательно.
Вероятно, он подумал тогда, что я не в себе или же мне от него нужно что-то такое, что связано с его внешностью, с его схожестью с кем-то, кого он должен будет заменить в каких-то моих темных делишках. Да я и сама бы сходила с ума от неведения, окажись в подобной ситуации. Думаю, что скорее сбежала бы, чем стала дожидаться, как дальше станут развиваться события. Но это я тогда так думала и чувствовала. Ведь я была здорова, а потому плохо представляла, в каком состоянии здоровье моего подопечного. А ведь он был тогда еще болен, очень болен – и физически, и психологически. Он был тогда уверен, что потерял все: здоровье, близкого человека, дом, возможность заниматься музыкой. Вероятно даже, что он был одной ногой в могиле. Эта мысль пришла сразу же, как только я первый раз увидела его на больничной койке. Если он продал квартиру, даже не пытаясь хотя бы часть денег оставить на покупку комнаты, вполне допускаю, что он вообще не думал о жизни в будущем, как если бы и не собирался жить.
Слабый человек, скажете? Да, возможно. Но такая уж у него чувствительная натура. Будь он другим, не смог бы так вдохновенно играть, так чувствовать музыку.
Ведь я видела его совершенно другим! Там, в Москве, в консерватории, куда осенний ветер с дождем – или судьба? – загнали меня на концерт молодого пианиста Сергея Смирнова. Того самого Смирнова с московских афиш, молодого красавца, блондина с одухотворенным лицом и тонким профилем… Программа его выступления тогда мне ни о чем не говорила. Конечно, я слышала такие имена: Лист, Шуберт, Бетховен, но для меня они были, как это ни кощунственно, пустым звуком! Когда они обретут иное звучание, я не знала. Просто глядя на одну из его афиш во время моих долгих странствий по незнакомой Москве, где я училась жить без мужа, я придумала себе жизнь этого красивого музыканта. Мне он тогда казался небожителем, человеком с необыкновенными талантами, терпеливым, упорным, работоспособным – обладающим всеми качествами, которыми не обладала я.
Я понимала, что он живет в другом мире, куда мне вход запрещен. Существует особая каста людей, называемых музыкантами, они сделаны из иного материала, не из того, что я. Чтобы заработать на жизнь, они не продают наркотики или оружие, как это делал мой муж, а извлекают звуки, завораживающие, магнетические, заставляющие людей горько плакать или смеяться, танцевать или размышлять о жизни. Что такое вообще музыка? И почему она бывает такой разной? Человек с таким лицом, как у Сергея Смирнова, не может прикасаться к музыке, от которой я закрывала уши в окружении бандитов. Он играет музыку, которая затрагивает заложенные в каждом человеке тончайшие струны, заставляя его быть лучше, чище, благороднее, выше.
И мне захотелось подняться. Если не на его уровень, то хотя бы чуть приподняться над своей жизнью. Понять, чем живут такие люди, о чем они думают, говорят, что едят, где бывают. Какие фильмы смотрят, где черпают силы, из какого материала сделаны они сами и их души? Да, мне хотелось очиститься от всего, что я хлебала за годы жизни с Н., вытравить из собственной кожи даже запах этой жизни, не говоря уже о звуках и картинах. Эти сытые, довольные рожи, эти белоснежные импланты, впивающиеся в сочную мясную мякоть, этот пьяный блеск в глазах. Этот грязный мат, эти стопки грязных денег, заработанных на продаже «дури», на смертях молодых парней и девчонок. Это желание продемонстрировать друг другу свое богатство, власть, даже грубость!
Откуда-то я знала, что я другая, что я должна доказать себе это сама. Должна найти своих родителей, которые были частью богемы в моем родном городе. Время от времени в моей памяти, будоража воображение, оживали картинки из детства, и я видела этих людей, особенных, красиво одетых, которые прогуливались по ярко-зеленой поляне с бокалами шампанского, шутили, смеялись, а из распахнутых окон лились звуки фортепиано.
Вот почему я решила, что мои родители были именно музыкантами. Скорее всего, пианистами. Или кто-то один из моих родителей. И кто эта женщина, которую я так хорошо помню, та, что играла на рояле и кормила меня сырниками с изюмом? Пусть воспоминаний не так и много, но все они отражение детской души.
Конечно, мне часто снился интернат. Какие-то страшные лица, холодные гулкие коридоры, по которым я бегу, босая, спасаясь от кого-то…
О днях, проведенных в этом аду, не хочу даже вспоминать. Один запах там чего стоил. Нет, там не плохо пахло, там все тщательно мылось и чистилось. Дело в особом неистребимом запахе сотен детских тел, теплых постелей, готовящейся пищи, подгорелого молока. Яблочный запашок детской мочи и хлорки, горячих булочек с ванилью… Это запах нашей жизни без родителей – вот что это такое. Это запах слез и страданий, одиночества и страхов, когда ты понимаешь, что никому до тебя нет дела.
Хотя мне, конечно, сильно повезло. Женщина, которая первые мои годы в казенных стенах согревала меня теплом, существовала. И обнаружил это мой верный друг – Ерема.
После похорон Н. я отправилась в Москву – учиться жить.
– Представь, Соль, что тебя бросили в реку, чтобы ты научилась плавать, – как ребенку объяснял мне Ерема. Он привез меня в аэропорт. Я летела в Москву налегке, с одной дорожной сумкой. В записную книжку был вложен листок со списком моих новых счетов. – Да, жестоко. Зато потом станет легче. Москва огромная, там ты затеряешься, там никому не будет до тебя дела. Снимешь квартиру, поживешь, осмотришься.
Конечно, мне было бы спокойнее, если бы рядом был он.
– Мне туда нельзя. Пусть все думают, что мы расстались. Что нас ничего не связывает. Говорю же, мне надо быть здесь, смотреть за домом. Иначе от него камня на камне не оставят.
Но я понимала, что не в доме дело. Вероятно, после смерти Н. оставались незавершенные дела, и Ерема хотел все подчистить, во всем разобраться, чтобы никому и в голову не пришло предъявлять счет вдове. Это потом я узнаю, что произошло на самом деле – сразу после того, как Ерема отправил меня в столицу, снабдив паспортом на имя Лазаревой Татьяны Андреевны. Узнаю случайно, вернувшись через год в Лисий Нос и заметив на дорожке, ведущей к дому, сверкающую на солнце гильзу.
Я не была уверена, что Ерема дома – мы целый год не виделись. По тропинке, ведущей к дому, я шла осторожно, стараясь не шуметь. А вдруг в доме живут посторонние? Все те, кто охотился за деньгами Н. после его смерти?
Был июль, солнце припекало, от земли, пропитанной вчерашним дождем, шел пар. Дом выглядел посвежевшим, но каким-то маленьким, словно игрушечным. Быть может, таким я воспринимала его после Москвы?
Ерема, как и обещал, посадил розы, кусты, да и лужайка перед домом была пострижена и имела свежий, ухоженный вид.
Телефон, который он мне подарил, я потеряла. Примерно через неделю после переезда в Москву. Это была настоящая потеря. И хоть Ерема не был мне отцом или братом, все равно я считала его очень близким человеком, и этот телефон был гарантией моей безопасности. Да, меня, может, и бросили в речку, чтобы научилась плавать, но я знала, что где-то рядом лодка с Еремой. А теперь я очень-очень боялась утонуть.
Я остановилась в нескольких шагах от крыльца, посмотрела на березу, росшую справа от дома за кустами орешника, и решила все же не рисковать. Кормушка, контейнер, записка. Дрожащей от волнения рукой я развернула ее, боясь прочесть что-то нехорошее, что сделает мое возвращение опасным для жизни. «Привет. Я поехал в Питер, за покупками. Вернусь не позднее 12.30». И дата. Сегодняшнее число и год!
Я посмотрела на свои руки – кожа отреагировала счастливыми мурашками. Я достала телефон, чтобы посмотреть, который час. 11.40.
Выходит, Ерема должен появиться совсем скоро.
Я снова вернулась к крыльцу. Жаль, что мы с ним не договорились о тайном месте для запасного ключа. Не было у нас в свое время такого места и с Н. Должно быть, в доме хранилось так много всего, что стоило огромных денег, что никому и в голову не пришло таким вот легкомысленным образом прятать ключи.
Вот тогда-то, сидя на крыльце, я и заметила сверкающую на солнце гильзу. Конечно, я не знала, что это гильза, просто увидела какой-то металлический предмет. Да и блеск-то был не ярким. Я сунула руку в припорошенный пылью ежик травы и извлекла гильзу. Я ничего не понимаю в оружии, тем более в гильзах. Определить вид и величину ствола я тоже не могу. Вот Н., он бы смог, он стал профессионалом в этом деле.
Дожидаясь Ерему, я нашла еще пять гильз. В разных местах. Совсем близко от дома.
При мне здесь не стреляли, даже по банкам. Значит, это случилось, когда я уехала.
Я уже представила себе раненого, истекающего кровью Ерему, окруженного всеми, кто еще недавно ходил в его друзьях. Они высыпали из своих машин, окружили дом и принялись палить по окнам… Я словно слышала эти выстрелы, стрекотание автоматной очереди.
Я смотрела на ворота и представляла себе, как сейчас подъедет скромный автомобиль и из него выйдет постаревший лет на десять Ерема, седой, прихрамывающий, как Жоффрей де Пейрак.
А что, если его вообще убили и записку оставил не он, а человек, подделавший его почерк и узнавший тайну нашей с ним переписки?
Услышав звук подъезжающей машины, я бросилась бегом за дом, спряталась в кустах, прижала к себе сумки и пакеты с подарками и замерла. Довольно удобная позиция – меня никто не увидит в густых зарослях орешника, мне же видно и ворота, и часть дорожки, ведущей к дому.
Сердце мое колотилось. Казалось, его удары отдаются в целлофановом хрусте моего багажа и именно эти звуки выдают меня.
– Соль, не бойся, это я! – вдруг услышала я знакомый голос и почувствовала, как теплые слезы заструились по моим щекам. Это был голос Еремы.
Ворота распахнулись, и я увидела его, живого и здорового, в синем джинсовом костюме и оранжевых ботинках. Пол-лица закрывали темные очки. Руки его были заняты одинаковыми пакетами из супермаркета.
Я вышла из своего укрытия и бросилась к нему. Он опустил пакеты на дорожку, приподнял на лоб очки и заключил меня в свои крепкие объятия.
– Слава богу, – сказал он, целуя меня в макушку. – Как я рад, что снова вижу тебя.
– Я потеряла телефон.
– Знаю, я все о тебе знаю. Даже то, что ты должна была сегодня прилететь из Москвы. Мои люди присматривали за тобой.
Так значит, лодка с Еремой все-таки была, только я ее не замечала? В этом был весь Ерема.
– Пойдем в дом, я же обещал тебе, что сохраню его!
В доме произошли большие изменения. Перепланировка, серьезный ремонт, другая мебель, ковры, занавески. Это вообще был другой дом.
Я разжала ладонь и показала Ереме гильзы.
– Да, кое-что пришлось здесь подремонтировать, – улыбнулся он мне одними губами, при этом глаза его стали печальными. – Столько шакалов было… Оборотни. Некоторые так и остались здесь навсегда. Я закопал их в лесу неподалеку, иначе они бы закопали меня. Хотя, скорее всего, не закопали бы. Нет, просто оставили бы на съеденье лисам. Все они появлялись ночью. Ты не представляешь себе, сколько я тогда пил кофе, чтобы только не уснуть. Отсыпался днем, чувствовал, что в это время сюда никто не сунется.
– А что они хотели?
– Думали, что здесь склад, что есть что взять. Но я честно раздал долги твоего мужа, я был в курсе всех его дел. Да и кое с кого стряхнул долги, а как иначе? Но все это в прошлом. Сюда больше никто никогда не сунется. Правда, пришлось после всех этих разборок приводить в порядок дом. Ты бы видела, что стало со стенами, мебелью. Это просто счастье, что тебя здесь не было.
– Могу себе представить, что здесь происходило.
– Тебе незачем это представлять. Главное, все закончилось, и теперь ты спокойно можешь жить здесь. Сколько угодно. Да только ты ведь не для этого приехала?
– Нет, не для этого. Я приехала, чтобы повидать тебя и попросить поехать со мной. Одной мне не справиться.
– Что-нибудь случилось?
– Нет.
– Но мне и здесь хорошо.
– Я решила действовать. Хочу найти своих родителей.
– Понятно. Все никак не можешь успокоиться? Но зачем тебе это? Мы с тобой уже столько раз говорили об этом. Предположим, найдешь ты свою непутевую мать. Дальше-то что? Она пьяница или просто женщина, потерявшаяся в жизни. Или наоборот, с ней все в порядке, она замужем, у нее дети, твои братья и сестры. Ты что, собираешься их опекать? Кормить-поить? Эти люди для тебя чужие, и ты никогда не станешь им своей, сколько бы бабок ты в них ни вкладывала. Ты никак не хочешь понять, что общая кровь – еще не причина соединяться с людьми. Чужие подчас становятся гораздо ближе родных по крови. Поверь мне, тебе не стоит вмешиваться в чужие судьбы.
– Но я не собираюсь вмешиваться. Я просто хочу узнать, из какой я семьи, кто мои родители. Я, может, даже и не подойду к ним. Просто узнаю, имеют ли они отношение к музыке…
– Ты снова о той женщине? Ты не подумай, я не жестокий и не бессердечный…
Пока мы разговаривали, Ерема накрывал на стол. Он привез из города мою любимую рыбу, мои любимые пирожные. Да он на самом деле знал о моем приезде, он ждал меня! Выходит, каждый мой шаг был ему известен. И потому он был более-менее спокоен в отличие от меня. За целый год я не совершила ни одной ошибки. Жила под фамилией Лазарева, хотя все мои банковские счета были по-прежнему на имя Валентины Соленой. Как и банковская ячейка здесь, в Питере, где хранился основной капитал.
– Я понимаю, что тобой движет простое женское любопытство.
– Нет, Ерема, это не любопытство. Я думаю, что моими родителями были музыканты. И что моя мать – пианистка. Довольно известная в С., потому что я вспомнила некоторые детали из моего детства. Помнишь, тот дом, о котором я тебе рассказывала. Так вот, там были люди, музыканты, они, как и эта женщина, играли на рояле, прогуливались на лужайке вокруг дома с бокалами, думаю, в них было шампанское…
– Да ты была ребенком! Откуда тебе знать, что было в бокалах?
– Может, я и не знаю, что именно они пили, но думаю, что это было шампанское. И люди эти, повторяю, музыканты. Они что-то праздновали. Я хочу попасть в это общество, Ерема. Я оттуда родом, понимаешь?
– Да ты со своими бабками можешь попасть в любое общество.
– Нет, Ерема, ты ошибаешься. Деньги, конечно, помогут. Но я хотела бы войти в этот круг органично, естественно, понимаешь? Чтобы меня не воспринимали как вдову бандита, решившую купить себе место рядом с ними, а как человека, имеющего непосредственное отношение к искусству, к музыке. Но выучиться музыке я не могу, этому учат с детства. А вот научиться понимать искусство можно. И первый шаг я уже сделала.
– Теперь понятно, зачем тебе понадобилось покупать столько книг по искусству.
– Тебе и об этом тоже доложили?
– «Лекции по живописи Ренессанса», «Искусство гомеровской Греции». Как видишь, я даже запомнил названия некоторых книг. А не проще ли было выйти замуж за какого-нибудь профессора из местных, чтобы подобраться к твоей матери?
– Зачем же за профессора, когда можно за молодого и талантливого пианиста? – Я почувствовала, как краснею.
– Так ты в него не влюбилась? – Ерема широко улыбнулся и поставил передо мной бутылку вина и фужер. – Этот блондинистый пианист, Сергей Смирнов. Ты целыми днями слушаешь его концерты. Он для тебя просто средство забраться с ножками в с-кий бомонд?
– А твои люди отслеживают и мои предпочтения в Интернете? – Я покачала головой.
Вот интересно, как бы я себя вела, если бы знала, что за мной следят? И как же это хорошо, что я не пустилась во все тяжкие, не завела себе любовников. Вот было бы стыдно перед Еремой!
– Кто они? Питерские?
– Не они, а он, это всего один человек. Московский сыщик, из бывших следователей. Очень толковый. Он присматривал за тобой.
– После того как я потеряла телефон?
– Ты его не потеряла. Это он его у тебя забрал, когда ты пила кофе в какой-то кондитерской. Обстановка была такая, что не нужно было, чтобы ты звонила мне. Надо было отрезать канал.
– Понятно.
– Знаешь, у меня было время заняться твоим вопросом. Но не для того, чтобы ты разыскала свою мать и взяла на себя ответственность за нее. Я никогда не понимал баб, которые бросали своих детей. И уверен, что она тебе не нужна. Тут дело в другом. Важно, чтобы она, случайно узнав о тебе (счета-то на твое имя), не стала разыскивать тебя. Я просто хотел оградить тебя от этого, а потому всерьез занялся ее поисками.
Я отодвинула от себя тарелку с рыбой. Услышанное потрясло меня. Выходит, Ерема решил оградить меня от собственной матери!
– А ты не слишком ли много на себя берешь? – вскипела я. – Тотальная слежка, а теперь еще и это! И что? Скажи еще, что ты нашел мою мать!
– Я нашел человека, женщину, которая заменила тебе мать на первых порах. И это она дала тебе свою фамилию.
– Удочерила, что ли?
– Нет-нет, там все гораздо проще. Соленая Елена Николаевна. Это она нашла тебя на ступенях детского дома.
– И? Ерема, не тяни уже!
– Соленая была директором этого детского дома. Однажды утром она просто шла на работу и увидела тебя на крыльце. Ты была завернута в одеяльце. Она взяла тебя и записала на свою фамилию. Понимаешь, таким, как ты, подброшенным детям, могут дать любую фамилию, какая только взбредет в голову руководству.
– Значит, она не удочерила меня, а просто записала на свою фамилию?
– Да. Повторяю, может, ты не поняла. Соленая Елена Николаевна была директором детского дома, и таких, как ты, брошенных детей там было немало. Не могла же она всех усыновлять и удочерять. Но она, по свидетельству людей, с которыми я лично разговаривал, относилась к тебе с особой нежностью, была привязана к тебе. Да что там, она опекала тебя практически до своей смерти!
– Как это?
– Она умерла, когда тебе было восемь лет. Умерла скоропостижно, от сердечного приступа.
– А я? Я могла бы поговорить с теми людьми, с которыми разговаривал ты?
– Смысл?
– Но я сама хочу обо всем узнать! Ведь речь идет обо мне, о моем детстве!